Ляля Кандаурова
Опера в моде последние лет четыреста
Опера в моде последние лет четыреста
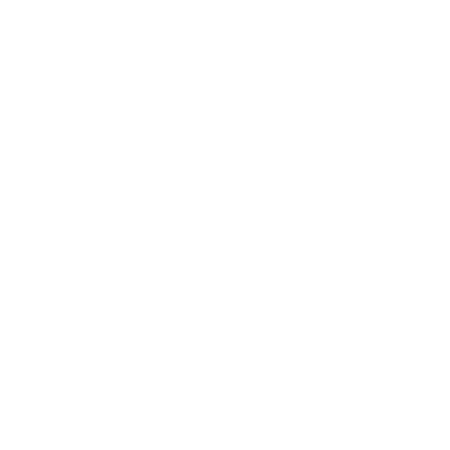
Постоянный лектор «Шатологии» Ляля Кандаурова влюбляет слушателей в классическую музыку, соединяя легкость подачи с серьезностью и тонкостью. В феврале на лекциях в замке Ляля будет готовить нас к просмотру двух громких премьер сезона 2024/25 Парижской оперы, а мы тем временем расспросили ее о композиторах Жан-Филиппе Рамо и Рихарде Вагнере — а еще о том, зачем нам новые интерпретации классических произведений.
“
Магия оперы — в том, что это искусство умеет всегда по-новому рассказывать старые истории, а значит, оно всегда современно
— Как меняется восприятие музыки в зависимости от постановки? Нам правда важно смотреть новые версии классических опер именно в театре, а не слушать дома в записи?
Мне кажется, опера — один из тех жанров, которые почти бессмысленны вне стен театра. Несмотря на широкое распространение трансляций и на то, что зачастую спектакли теперь рассчитаны на съемку с множества камер и крупные планы, мне кажется что нечто главное в этом жанре остается неизменным — таким же, как сотни лет назад. Опера — это та форма переживания, которая доступна нам именно в театре, а театр — живое, изменчивое пространство: если бы каждая великая партитура существовала в единственной «эталонной» постановке, жанр давно умер бы как таковой. Даже если предположить невероятное — что какая-то версия того же «Золота Рейна» полностью удовлетворила бы потребность в истолковании этой партитуры и была бы признана совершенной для, например, одного поколения, — несомненно, уже следующее не смогло бы разделить этот взгляд. Глядя на постановки хотя бы двадцатилетней давности, мы убеждаемся в том, что «красиво состариться», не превратившись в живую главу из учебника истории театра, этакое винтажное зрелище, сумели лишь считанные спектакли. То есть вся магия оперного искусства в его нынешнем состоянии, когда наряду с именем автора на афише нас привлекают имена интерпретаторов — именно в том, что оно всегда современно, поскольку по-новому рассказывает старые истории.
— Есть расхожее мнение, что опера — высоколобый жанр для закрытого круга посвященных. При этом мы видим полноценные блокбастерные постановки: в том же «Касторе и Поллуксе» задействована целая плеяда звезд, имена которых на слуху даже у тех, кто не слишком погружается в мир оперы. Значит ли это, что опера становится модной?
Опера в моде последние лет четыреста. Возможно, меняемся мы — и меняется наш взгляд: в последние десятилетия опера много взаимодействует с кино — то есть искусством более демократичным, — а благодаря тем же теле- и интернет-трансляциям виртуально побывать на фестивалях или знаковых премьерах важных оперных домов всего мира смогли люди, которые в другом случае не могли бы себе этого позволить или которым прежде не приходило в голову провести таким образом время. Но разумеется, опера всегда была чем-то шикарным и фешенебельным, признаком статуса: это эталонное великосветское развлечение, в котором причудливо переплетаются дух карнавала и буржуазность. В то же время, несмотря на то, что я восстаю против стереотипа о «высоколобости» оперы, я понимаю, откуда он берется. Современный музыкальный театр требует от зрителя интеллектуального усилия и некоторого опыта, если мы не говорим про потребительские туристические спектакли, которые показывают на летних опен-эйрах, или нарядную консервативную классику, где либретто инсценируется в роскошных костюмах. Современная театральная режиссура — это плотный текст, который может быть полон отсылок к политической реальности наших дней, цитат, связанных с кино или изобразительным искусством, рефлексии о других знаковых постановках той или иной партитуры, режиссерских автоцитат или специфической для каждого режиссера визуальной лексики. В этом смысле, возможно, я соглашусь с вами, что опера — жанр эстетский, «для тех, кто разбирается»; невероятно захватывающе бывает читать рецензии театральных интеллектуалов на значимые премьеры, обнаруживая там те кусочки головоломки, что ты не в силах отыскать сам.
— Расскажите немного о Жан-Филиппе Рамо. Чем интересен этот композитор?
Жан-Филипп Рамо — французский современник Баха и Генделя, блистательный теоретик музыки, которому мы обязаны главным трактатом о гармонии, созданным в XVIII столетии. Там описаны и сведены в упорядоченную систему законы, по которым музыкальное искусство жило следующие сто пятьдесят лет — гармонию, подчиняющуюся им, любой человек опознает как «правильную», даже не зная о теории музыки ничего. Но Рамо — не просто ученый; он был автором корпуса изумительных клавесинных пьес, а еще писал для театра. Рамо был последним гением французской оперы эпохи барокко, а его работы — финалом и одновременно кульминацией ее истории. Вернее, эпоху ему выпало пережить: свою последнюю оперу 80-летний Рамо написал в 1764 году, в уже изменившейся реальности. Работали французские просветители; причудливый, хаотический, кишащий жизнью мир барочного театра с его сверхроскошным визуальным языком уступил место элегантному классицизму.
Несмотря на то, что Рамо — это еще вроде бы барокко с его томлением, избытком, волшебством, дыхание классицизма уже очень сильно в его музыке. Слышно, что ее писал человек невероятно рациональный, в искусстве искавший объективность и всеобъемлющую организацию. Более раннее французское барокко — великий предшественник Рамо, Жан-Батист Люлли, работавший при дворе Людовика XIV — это реальность, куда более далекая от нас: ко всем этим тонкостям придворной культуры XVII века, витиеватым метафорам и сложной метафизике нужен ключ.
Несмотря на то, что Рамо — это еще вроде бы барокко с его томлением, избытком, волшебством, дыхание классицизма уже очень сильно в его музыке. Слышно, что ее писал человек невероятно рациональный, в искусстве искавший объективность и всеобъемлющую организацию. Более раннее французское барокко — великий предшественник Рамо, Жан-Батист Люлли, работавший при дворе Людовика XIV — это реальность, куда более далекая от нас: ко всем этим тонкостям придворной культуры XVII века, витиеватым метафорам и сложной метафизике нужен ключ.
Рамо же, как и Бах, уже говорит с нами на языке, который мы понимаем без словаря — в нем появляются классицистическая ясность, стройность, доходчивость. Рамо для меня будто высечен из белоснежного мрамора.
Мы едем на спектакль, которым будет дирижировать Теодор Курентзис. Это важно: Курентзис — выдающийся интерпретатор этого композитора. Именно он ввел фамилию Рамо в обиход среднестатистического русскоязычного слушателя, когда в начале 2010-х стал исполнять монопрограммы с его музыкой, а позже со своим оркестром musicAeterna записал известный ныне диск «Рамо — звук света». Это изумительно сыгранные и спетые фрагменты оркестровой и театральной музыки композитора. Характерные стороны интерпретаций Курентзиса — их выверенность, кристальная прозрачность, артикуляционное совершенство, как бы «вырезанность изо льда» — очень подходят этой музыке. Ставить «Кастора и Поллукса» будет гигант авангардного театра, американский анфан террибль Питер Селларс. Как известно, это устоявшийся тандем: Курентзис и Селларс ставили Моцарта в Зальцбурге, Пёрселла в Мадриде и не только.
— Кстати о Питере Селларсе. В интервью по поводу премьеры «Кастора и Поллукса» он описывает музыку Рамо как микс Стравинского и Бейонсе. Вы согласны?
Ахах, не слышала этого сравнения. Это смешно и точно; да, у Рамо есть та самая танцевальная чувственность, драйв, напор, азарт. Вообще музыкальная культура Франции XVIII века — в значительной степени балетная, и это отлично слышно в его музыке. Вместе с тем Рамо близка идея обоснованности и разумности, некоторая рассудочность Стравинского, а еще «стравинскианская» прозрачность и внятность. Люблю высказывание Игоря Фёдоровича о том, что его музыка — это самое сухое шампанское, которое обжигает рот, а не пьянит. Никакого расслабления: она действует как глоток ристретто. Думаю, Рамо понравились бы эти слова. Резкость и чувственность — вроде бы полярные, несочетающиеся стихии, но в его музыке они сходятся. Я сказала об образе чего-то ажурного и ледяного — продолжая мою метафору, можно представить себе, как эта резная снежинка начинает таять, превращаясь в каплю воды.
— Давайте немного в сторону «Золота Рейна». Вы однажды сказали, что музыка Вагнера грандиозна и как будто абсолютно несоразмерна человеку. Но при этом Вагнер прочно прописался в поп-культуре — тот же «Полет валькирий» мы где только не слышим. Как эта «попсовость» сочетается с несоразмерностью человеку?
Вагнер был первым композитором, который придумал продвигать себя, свою музыку и все вокруг нее как бренд. Никому прежде не приходило в голову, что мир, создаваемый в рамках музыкально-театральной продукции, может представлять собой что-то вроде современных кино- или игровых вселенных — что оперный мир может быть франшизой, обладающей своей айдентикой, связанной со специфическим языком, образами и внутренней хронологией, события которой можно дополнять сиквелами, приквелами, расширять спин-оффами и так далее. Сюжеты вагнеровской вселенной сообщаются друг с другом: Лоэнгрин, опера о котором была написана в середине века, еще до тетралогии «Кольцо нибелунга», — один из рыцарей Грааля, называющий себя сыном Парсифаля; через тридцать с лишним лет будет написан, собственно, «Парсифаль» — работа, завершающая путь Вагнера. В «Кольце» этот эффект саги, разумеется, достигает апогея: Вагнер создал шестнадцатичасовой оперный сериал, сложно устроенную реальность, рассказ о которой открывается сотворением мира и завершается апокалипсисом; реальность, населенную пантеоном богов, разнообразными низшими существами и человеческими семьями, историю которых мы отслеживаем на протяжении нескольких поколений.
Этот обособленный мир во всем излучает исключительность; вагнеровская опера так отличалась от театрального мейнстрима той поры, что он даже стремился обозначить свой жанр по-новому.
В начале 1850-х, еще до того, как приняться за «Кольцо», он пишет: «Я никогда больше не напишу оперу», — что он и сделал: технически то, что он создал после этого, нельзя называть операми, это музыкальные драмы. Когда мы слушаем его итальянских или французских современников, создается ощущение, что это просто другой тип искусства. Со временем Вагнеру приходит в голову, что смотреть его драмы нужно в специальном месте: так появляются Байройтский театр и фестиваль, атмосфера которого соединяет черты слета ролевиков и собрания адептов религиозного культа: как известно, зрители в Байройте восходят на Зеленый холм, как если бы они приближались к некоему Храму (правда, третий важный компонент там, конечно, коммерческий и светский — это к теме «опера как буржуазная утеха», с которой мы начали).
Вагнер и сам переселился в созданный собой мир: своих детей он назвал Изольдой и Зигфридом, основал брендированный «семейный» театр и фестиваль, который сто пятьдесят лет спустя еще возглавляют его прямые потомки. Все, к чему он прикасался, превращалось в часть этой франшизы. Недавно музыкальные паблики тиражировали смешной снимок: один из зрителей театра Метрополитен-опера пришел на «Лоэнгрина» со взбитой в гнездо прической, где угнездился бутафорский лебедь, и «птичьем» гриме. Фотографируясь у афиш, он напоминал фаната, который пришел поддержать любимую команду в фирменном боевом раскрасе и с шарфом соответствующих цветов. Невозможно представить, что слушатель отметил бы таким образом свою приверженность музыке Верди, Чайковского, Пуччини — подставьте тут любую фамилию.
Вагнер и сам переселился в созданный собой мир: своих детей он назвал Изольдой и Зигфридом, основал брендированный «семейный» театр и фестиваль, который сто пятьдесят лет спустя еще возглавляют его прямые потомки. Все, к чему он прикасался, превращалось в часть этой франшизы. Недавно музыкальные паблики тиражировали смешной снимок: один из зрителей театра Метрополитен-опера пришел на «Лоэнгрина» со взбитой в гнездо прической, где угнездился бутафорский лебедь, и «птичьем» гриме. Фотографируясь у афиш, он напоминал фаната, который пришел поддержать любимую команду в фирменном боевом раскрасе и с шарфом соответствующих цветов. Невозможно представить, что слушатель отметил бы таким образом свою приверженность музыке Верди, Чайковского, Пуччини — подставьте тут любую фамилию.
Вагнер действует по законам поп-культуры и современного медиамира, которые на момент его жизни еще не существовали и во многом им оказались предугаданы.
Все знают, что он был любимым композитором Гитлера и символом культурного престижа Третьего Рейха, но на самом деле влияние Вагнера простирается гораздо дальше, поскольку он придумал новый способ говорить и думать об искусстве и поп-культуре. Этот способ идеально подходит нам сегодняшним — эпохе интернета и мультимедиа, и именно поэтому Вагнер нам так понятен и так глубоко захватывает нас. В Париже мы будем смотреть первую часть «Кольца» — то есть начнем погружаться в мир тетралогии с ее космогонического пролога. Каликсто Биейто — великолепный каталонский режиссер, который ставит «Золото», — помещает эту историю в контекст, где доминирует цифровая виртуальность, и ничто здесь не входит в конфликт с вагнеровской эстетикой.
Заявка на участие
в программе "Две оперы"
с 8 по 15 февраля'25
в программе "Две оперы"
с 8 по 15 февраля'25
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Задать вопрос
о программе для взрослых
«ДВЕ ОПЕРЫ»
8 – 15 февраля, 2025
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности


