Евгений Коган
Цель моей жизни — чтобы люди читали книги
Цель моей жизни — чтобы люди читали книги
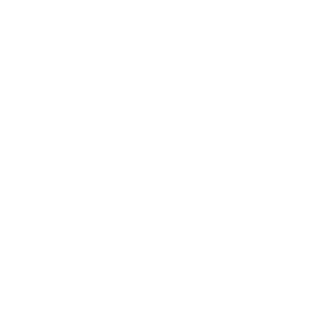
Сооснователь и совладелец тель-авивского книжного магазина и издательства «Бабель», писатель и просто наш давний друг Евгений Коган едет на зимнюю «Шатологию» рассказывать о литераторах, выброшенных волею судьбы и истории в эмиграцию (в том числе внутреннюю). Гарантируем: столько новых имен за короткое время вы больше нигде не услышите! А мы тем временем поговорили с Евгением о забытых писателях, литературном андеграунде и о том, что такое хорошая книга.
“
Мне кажется, что без Набокова, Газданова, Пушкина можно легко прожить. Не имея представления о Набокове, живет девяносто девять процентов населения Земли — и вообще горя не знает. Я иногда очень завидую этим людям, но я так не могу.
— Ты давно исследуешь забытых писателей первой волны эмиграции? Как ты объясняешь себе, почему это важно?
Справедливости ради, меня всегда больше интересовала ранняя советская литература, то есть то, что происходило в двадцатые годы в новой советской России. Эмигрантской литературой я интересуюсь, потому что это одно время. Люди, которые уехали — и те, кто не уехал, мне интересно в том числе сравнивать, проводить какие-то параллели, пытаться найти что-то общее, — но, естественно, оно не всегда находится. Не так давно вышла книга «Незамеченное поколение. Контекст. Судьбы. Темы», которую написала Полина Проскурина, литературовед и автор одноименного сайта. Она много лет занимается теми, кто уехал сразу после революции. Здесь сразу вспоминаются имена Владимира Набокова, Бориса Поплавского, Гайто Газданова — их сложно назвать незамеченными. При этом в этой первой волне эмиграции десятки имен, которых мы не знаем, потому что кто-то не публиковался, кто-то сгинул, опубликовав одну-две книжки за свой счет и никак не прославившись. Многие писатели оказались во Франции, часть из них (притом значимая) составила антифашистское сопротивление, многие погибли.
Так вот, Полина Проскурина долгие годы занимается исследованием этого феномена: разыскивает биографии этих людей, публикует их тексты, пытается вернуть это поколение из небытия. Там много очень интересных текстов, которые не только документируют время и эмоции, но и просто являются хорошей литературой. К тому же это была эпоха переизобретения языка, как в России, так и за рубежом. Мне интересно наблюдать за этими языковыми играми — не всегда удачными, но всегда интересными.
Так вот, Полина Проскурина долгие годы занимается исследованием этого феномена: разыскивает биографии этих людей, публикует их тексты, пытается вернуть это поколение из небытия. Там много очень интересных текстов, которые не только документируют время и эмоции, но и просто являются хорошей литературой. К тому же это была эпоха переизобретения языка, как в России, так и за рубежом. Мне интересно наблюдать за этими языковыми играми — не всегда удачными, но всегда интересными.
— Эти забытые имена, имена «не на слуху», важны определенному кругу читателей. А что, по-твоему, теряет тот читатель, который ограничивается списком больших имен и не идет дальше условных Пелевина и Сорокина?
Я сейчас скажу ужасную вещь: мне кажется, ничего не теряет. Мне кажется, что без Набокова, Газданова, Пушкина и Фолкнера можно легко прожить. Девяносто девять процентов населения Земли живет, не имея представления о Набокове, и горя не знает. Я даже немного завидую этим людям, но сам так не могу. Мне кажется, что все эти забытые ребята могут нам, читающим и рефлексирующим, открыть что-то новое, подтвердить или опровергнуть наши мысли. Так что мне (и не только мне) интересно вступить с ними в какую-то дискуссию. Скажем, десять лет назад я не знал, кто такой Борис Поплавский. Не могу сказать, что моя жизнь сильно изменилась и знание его текстов помогает мне в быту. Просто стало интересней, возможно, что-то прояснилось в голове.
— Когда мы говорим о языковой эмиграции, русскоязычный читатель первым делом вспоминает Набокова. Другое известное имя — Джозеф Конрад. А кто еще в этом ряду, и про кого ты будешь говорить на «Шатологии»?
Например, Виктор Серж. После того как его в 1936 году выставили из СССР и на границе отобрали все рукописи, он, осев в родном Брюсселе, а потом в Мексике, восстанавливал их по памяти (и на русском, и на французском). Но все-таки самое удивительное имя — уже упомянутый поляк Джозеф Конрад: он до конца своих дней говорил на английском с акцентом и речевыми ошибками, но при этом стал американским классиком первой величины, одним из главных. Если брать еврейскую эмиграцию, то это, конечно, пароход «Руслан», 1919 год, «идишское» поколение — люди, для которых родным языком был идиш. Но, будучи сионистами, они все заговорили на иврите. Или главный израильский поэт Хаим Нахман Бялик: он писал на иврите и вообще поселился в Тель-Авиве на улице имени себя (он буквально жил на улице Бялика). Что, впрочем, не помешало ему однажды попасть в уличную заваруху за то, что с кем-то говорил на идише.
— Если переместиться в сторону внутренней эмиграции, «второй культуры», обэриутов, кто тут важен?
Для меня, конечно, важны все. Например, в 1981 году в Ленинграде образовался «Клуб-81» (который слегка курировался КГБ). Для участников клуба это был шанс собираться, выступать, печататься. Высказываться. Но при этом был еще круг «Поэты Малой Садовой» во главе с поэтом и прозаиком Владимиром Эрлем — они собирались в ленинградском кафе на Малой Садовой улице, обсуждали все, от религии до литературы, выпускали свои сборники тиражом буквально по пять экземпляров, причем самодельных. Настоящий такой андеграунд, андеграунднее некуда. Они восприняли появление «Клуба-81» как предательство, Эрль говорил, что нельзя ходить на собрания нечестивых. Понятно, что малосадóвцы хотели так или иначе донести свои тексты до читателя, но так как не собирались сотрудничать с советской властью, то существовали в собственном коконе, примерно так же, как лианозовцы в Москве. Было бы преувеличением сказать, что они не замечали советскую власть — они не могли ее не замечать, ведь их сажали и преследовали. Но старались с ней не соприкасаться, и в этом они абсолютные последователи обэриутов.
Так же, как «Южинский кружок» и писатель Юрий Мамлеев на ранних порах. Так же, наверное, как Саша Соколов, который, конечно, хотел быть великим писателем, но и его, и мамлеевские тексты написаны как будто вне своего времени, без оглядки на него. У Ромы Либерова была серия лекций про методики выживания интеллигентного человека в условиях, для выживания не приспособленных, на примерах Хармса, Довлатова, Юрия Олеши. Все они выработали собственные способы выживания через уход во внутреннюю эмиграцию.
Так же, как «Южинский кружок» и писатель Юрий Мамлеев на ранних порах. Так же, наверное, как Саша Соколов, который, конечно, хотел быть великим писателем, но и его, и мамлеевские тексты написаны как будто вне своего времени, без оглядки на него. У Ромы Либерова была серия лекций про методики выживания интеллигентного человека в условиях, для выживания не приспособленных, на примерах Хармса, Довлатова, Юрия Олеши. Все они выработали собственные способы выживания через уход во внутреннюю эмиграцию.
— Успешные?
Сложно сказать. Обэриутов, например, уничтожили почти всех. Для меня в этом смысле самая потрясающая фигура — великий Владимир Эрль. Этот человек — продолжение, перерождение русского авангарда. Он до конца своих дней был как-то сам по себе, умер практически в одиночестве. Я не уверен, что это универсальный способ существования, но кому-то подходит.
— Что главное ты хочешь сказать на курсе?
То же, что говорю всегда и везде. Мне иногда кажется, цель моей жизни — чтобы люди читали книги. Хотя в начале мы говорили, что это бессмысленно и не помогает жить, но все же делает жизнь интереснее и полнее, что ли. Поэтому я хочу, чтобы люди читали хорошие книги, и к каждой лекции подготовлю список «домашнего чтения». Я хочу, чтобы люди, выйдя с моих лекций, пошли в книжный магазин и купили хорошие книжки.
— Хорошие книги — это какие? И даешь ли ты книге шанс, если понимаешь, что она не очень?
Я все книжки дочитываю до конца. Я даю шанс каждой, которую открываю; другое дело, что иногда ожидания не оправдываются, но я всегда дочитываю. Хорошая книга для меня — в том числе та, что написана на хорошем русском языке, поэтому я люблю Сорокина и не люблю Пелевина. Идеи у обоих офигенные, Пелевин — гениальный придумщик, просто потрясающий, но мне кажется, что он не очень хорошо пишет на русском языке. Это, понятно, мое оценочное мнение. А Сорокин с точки зрения языка — большой писатель. Как Довлатов или Платонов.
Заявка на участие
в программе для взрослых
«МИР В ДВИЖЕНИИ»
3 – 9 января, 2025
в программе для взрослых
«МИР В ДВИЖЕНИИ»
3 – 9 января, 2025
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Задать вопрос
о программе для взрослых
«МИР В ВДИЖЕНИИ»
3 – 9 января, 2025
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности


