Виктор Вахштайн
Утопия — это не прошлое или будущее, а вечное
Утопия — это не прошлое или будущее, а вечное
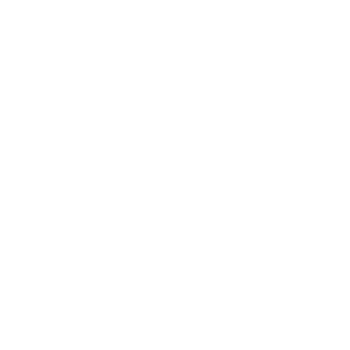
Как вышло, что однородные пространства стали восприниматься желаемым идеалом? Когда появилась идея о том, что город должен быть комфортным местом? Есть ли смысл в термине «лицо города»? Поговорили об этом с социологом Виктором Вахштайном накануне осенней «Шатологии», которая посвящена городам и утопиям.
“
Базовая идея, что город должен создавать «нового человека», не исчезла. Представления в духе «Мы строим не город — мы создаём сообщество и повседневную практику будущих поколений» никуда не ушли.
— В описании вашего курса есть фраза «бесчеловечно широкие проспекты, уходящие за горизонт, стерильное однородное пространство, разделенное на квадраты идентичных кварталов, и визуальные доминанты, похожие на Вавилонские башни». А откуда взялась идея, что такие идентичные кварталы и широкие, несоразмерные человеку проспекты, — это хорошо?
У этой идеи два очень разных источника, и хотя сегодня мы, как правило, маркируем это как что-то негативное, изначально было не так. Первый источник — идеи французского рационализма. Рене Декарту принадлежит фраза о том, что «ни один из городов, сложившихся в хаосе повседневности в результате дурных привычек, не сравнится с тем идеальным, рационально устроенным в соответствии с требованиями самого разума пространством, которое наши архитекторы могут создать с чистого листа». Это не просто идея доминирования разума над историей, это объявление войны истории. Ведь что есть история, как не накопленные заблуждения, которые продолжают воздействовать на нашу жизнь? Ancien régime, старые традиции, которые мешают рациональному человеку будущего реорганизовать свою жизнь. Отсюда — культ чистого листа, отсюда — представление о том, что только в чистом поле можно создать что-то по-настоящему свободное от проклятия прошлого. Это близко и понятно советским людям, потому что идея «проклятого прошлого» — важная часть не только всей советской пропаганды, но и антисоветской 1990-х годов. Вспомните анекдоты про завод как проклятое место: работник такого завода пытается собрать детскую коляску, а у него автомат Калашникова получается — ну, место проклятое. Проклятие места — это проклятие истории. Чтобы избавиться от проклятия, нужно пересобрать, пересоздать социальную жизнь с чистого листа. Такая концепция довольно привлекательна, потому что мы прекрасно понимаем, до какой степени городское пространство и городские практики сохраняют в себе следы того образа жизни, с которым каждое следующее поколение пытается покончить, но заканчивает тем, что его воспроизводит.
А вторая идея, из которой вырастает культ однородного пространства, — это утопическое воображение нового времени, представление о том, что подлинного равенства (а равенство является для утопистов от Томаса Мора до Этьена Кабе императивом) можно добиться, только если мы сумеем регуляризировать пространство. Поэтому если мы посмотрим на гравюры Амаурота, столицы острова Утопия, то увидим в этой предельной регулярности пространства что-то очень напоминающее планы по реконструкции Москвы 1932 года: тогда архитекторы пытались сказать, что ничего не смогут сделать с Москвой, потому что это старый имперский город, и для преобразований нужно сломать её концентрическую структуру. То есть сделать ее Нью-Йорком, наложить «решётку» поверх, потому что это даёт шанс на создание не просто регулярной, но по-настоящему равной социальной структуры. Вот две идеи, которые приводят к тому, что «грид» — выровненное, организованное вокруг оптических осей городское пространство, – сначала начинает восприниматься как желаемый идеал, а потом как что-то очень пугающее, противостоящее самой жизни.
А вторая идея, из которой вырастает культ однородного пространства, — это утопическое воображение нового времени, представление о том, что подлинного равенства (а равенство является для утопистов от Томаса Мора до Этьена Кабе императивом) можно добиться, только если мы сумеем регуляризировать пространство. Поэтому если мы посмотрим на гравюры Амаурота, столицы острова Утопия, то увидим в этой предельной регулярности пространства что-то очень напоминающее планы по реконструкции Москвы 1932 года: тогда архитекторы пытались сказать, что ничего не смогут сделать с Москвой, потому что это старый имперский город, и для преобразований нужно сломать её концентрическую структуру. То есть сделать ее Нью-Йорком, наложить «решётку» поверх, потому что это даёт шанс на создание не просто регулярной, но по-настоящему равной социальной структуры. Вот две идеи, которые приводят к тому, что «грид» — выровненное, организованное вокруг оптических осей городское пространство, – сначала начинает восприниматься как желаемый идеал, а потом как что-то очень пугающее, противостоящее самой жизни.
— Получается, что самые комфортные для жизни города – те, где в эту «умышленность» врывается хаос?
Здесь важно, что это взгляд из XXI века. Нам кажется само собой разумеющимся, что города должны быть комфортными, чтобы по ним было приятно гулять, чтобы было куда пойти, но это современный взгляд. Изначально города вообще не про комфорт. Два этих слова в одном предложении противоречат самому духу урбанистической революции. Исторически города — это безопасность. Города XIX века — это концентрация ресурсов, то есть работа и деньги. А все идеи про комфорт, про зелёные зоны, скамейки – это достижения хипстерского урбанизма, то есть очень современная идея.
— Но почему это именно хипстерская идея? В том же Петербурге и раньше парки постоянно разбивались.
Да, но в городской документации они назывались «рекреационные пространства». Эта формулировка очень важна, она означает, что за парком закрепляются две функции. Первая — люди должны там отдохнуть между тяжелыми рабочими днями. То есть парк — своеобразная криокамера по восстановлению здоровья трудового населения, способ дать выдохнуть. Вторая функция парков — производить воздух. До 2010 года московская мэрия оценивала парки с точки зрения количества зелёных насаждений, которые должны производить кислород, чтобы мы не задыхались. Это зелёные лёгкие столицы, поэтому они функциональны. Здесь опять не про удовольствие от жизни, а про производство кислорода и пространство восстановления. Между прочим, это не только советская идея: Роберт Мозес, создатель «большого» нью-йоркского урбанизма, примерно в таких же категориях описывает город. У него нет нефункциональных пространств.
— Вы будете рассказывать, как разные способы мышления об идеальном городском пространстве связаны с ним же. Но идеальным для кого? И как в принципе можно вывести какой-то идеал, который устроит если не всех, то максимальное число горожан?
Понятие «идеальное пространство» сопровождает градостроение на протяжении всей истории человечества — не только в литературе нового времени, которая передаёт эстафету градостроителям, но и в религиозных текстах. Например, очень подробные описания мы найдём в Ветхом Завете. А у Платона — представление о том, что идеальный город отражает небесную гармонию на земле. То есть размышления об идеальном городе существуют на протяжении большей части того времени, что люди мыслят о своём совместном существовании. Но это размышления не об «идеальном для кого-то», а об идеальном в значении «трансцендентный», то есть выражающий здесь и сейчас некоторый космический миропорядок. Даже французские утописты-рационалисты считают, что есть некий идеальный разум, и если всё сделать в соответствии с его законами, то станет сильно лучше.
Когда в середине прошлого века люди пытались сломать эту идеологию, противопоставить ей что-то другое, они точно так же мыслили категориями идеальных пространств. И когда настаёт поворот от идеальных пространств как воплощения космической гармонии к идеальным пространствам для людей, которые там будут жить, меняется лишь понимание «идеальности».
Соответственно, когда мы начинаем смотреть, как конкурируют разные представления об идеалах, мы всегда можем произвести социологическую редукцию и сказать: «Человек, который выдвигает именно такие требования к пространству в качестве идеальных, принадлежит к определённому классу с определенными интересами – и поэтому он проталкивает под видом божественной гармонии интересы своего класса». Но тыкать в каждого утописта пальцем и говорить, например: «Ты проклятый буржуа, а твоя утопия – не более, чем воплощение мировоззрения твоего класса», — не очень продуктивно, потому что не помогает понять, как в итоге меняется пространство. Ну, буржуа, и что дальше — город для буржуа? Нет, потому что строит-то он город для всех. Район Эшампле в Барселоне создаётся не только для какого-то конкретного класса. Это результат борьбы идеологий, разных утопических проектов, которые в конечном итоге и становятся тем, что мы сегодня называем Барселоной. Это всегда некоторые представления о норме, которые объективируются, впечатываются в пространство, становятся наследием будущих поколений, для которых во многом и строилось, а вовсе не для своих сограждан. Как минимум – не для своих современников. Потому что базовая идея, что город должен создавать «нового человека», никуда не ушла. Кажется, что она осталась где-то у Кампанеллы, но в действительности в подсознании градостроителя всегда есть представление о том, что городское пространство может создать другого человека за счёт такой-то ширины улиц, высоты зданий, разметки пространства и мест, куда можно пойти. Лозунги в духе «Мы строим не город — мы создаём сообщество и повседневную практику будущих поколений» никуда не ушли.
Это безусловно было одним из важных элементов для московской хипстерской революции 2010-х (она никогда бы в этом не созналась, но как человек, который был её частью, могу с уверенностью сказать, что это было так). Да и люди, которые делали, например, Новую Голландию в Петербурге, думали о том, что именно эта лужайка покажет городу: можно жить по-другому.
Когда в середине прошлого века люди пытались сломать эту идеологию, противопоставить ей что-то другое, они точно так же мыслили категориями идеальных пространств. И когда настаёт поворот от идеальных пространств как воплощения космической гармонии к идеальным пространствам для людей, которые там будут жить, меняется лишь понимание «идеальности».
Соответственно, когда мы начинаем смотреть, как конкурируют разные представления об идеалах, мы всегда можем произвести социологическую редукцию и сказать: «Человек, который выдвигает именно такие требования к пространству в качестве идеальных, принадлежит к определённому классу с определенными интересами – и поэтому он проталкивает под видом божественной гармонии интересы своего класса». Но тыкать в каждого утописта пальцем и говорить, например: «Ты проклятый буржуа, а твоя утопия – не более, чем воплощение мировоззрения твоего класса», — не очень продуктивно, потому что не помогает понять, как в итоге меняется пространство. Ну, буржуа, и что дальше — город для буржуа? Нет, потому что строит-то он город для всех. Район Эшампле в Барселоне создаётся не только для какого-то конкретного класса. Это результат борьбы идеологий, разных утопических проектов, которые в конечном итоге и становятся тем, что мы сегодня называем Барселоной. Это всегда некоторые представления о норме, которые объективируются, впечатываются в пространство, становятся наследием будущих поколений, для которых во многом и строилось, а вовсе не для своих сограждан. Как минимум – не для своих современников. Потому что базовая идея, что город должен создавать «нового человека», никуда не ушла. Кажется, что она осталась где-то у Кампанеллы, но в действительности в подсознании градостроителя всегда есть представление о том, что городское пространство может создать другого человека за счёт такой-то ширины улиц, высоты зданий, разметки пространства и мест, куда можно пойти. Лозунги в духе «Мы строим не город — мы создаём сообщество и повседневную практику будущих поколений» никуда не ушли.
Это безусловно было одним из важных элементов для московской хипстерской революции 2010-х (она никогда бы в этом не созналась, но как человек, который был её частью, могу с уверенностью сказать, что это было так). Да и люди, которые делали, например, Новую Голландию в Петербурге, думали о том, что именно эта лужайка покажет городу: можно жить по-другому.
— У нас есть стереотипы, что Москва спешит, Петербург медленный, Нью-Йорк – это бизнес и так далее. И обычно это называют «лицом» города. Есть ли смысл в этом термине?
Ни малейшего. Единственное, что есть за этим термином – то, что разные люди и социальные группы пытаются приложить к разным городам свои собственные метафоры и пользуются ими, чтобы приписать некоторые обобщающие наименования для города в целом. Иногда это поставлено с коммерческим размахом и превращается в брендирование города. Какой-нибудь Чарльз Лэндри приезжает в Монпелье и говорит: «Я знаю точно, это город будущего, это инновация, это прогресс, поэтому здесь будет улица Пастера, улица Эйнштейна, мы покажем, что Монпелье – это что-то другое». А вот вы берёте воспоминания Фонвизина о поездке в этот же город: он говорит, что Монпелье – это больница, отделение для выздоравливающих, куда их свозят на реабилитацию и где они в тепличных условиях пытаются вернуться к жизни. Но такого рода брендирование, попытка подобрать метафору, которая что-то схватывает, не имеет отношения к городу как таковому и науке о городах. Оно имеет отношение к коммерческой стороне городского маркетинга.
— Слава Швец в разговоре о программе «Города и утопии» сказала, что люди в основном ищут утопии в прошлом, а не в будущем. Вы согласны?
Я бы так не сказал. Проблема в том, что утопия – это не про прошлое или будущее. Утопия – это про вечное. И то, что некоторые утописты, которых потом назовут левыми, ищут основания утопического общества в будущем, а некоторые утописты, которых потом назовут правыми, ищут его в прошлом, не меняет сути утопического воображения. Оно как раз предполагает, что есть некоторые трансцендентные, потусторонние, космические законы, которые не соблюдаются на Земле. Либо когда-то соблюдались, как в платоновской Атлантиде, а теперь нет, потому что люди сошли с пути истинного; либо наоборот – люди ещё недостаточно прогрессировали и продвинулись по пути к священному идеалу, и поэтому соблюдаться эти законы будут только в будущем. Но утопия сама по себе – это всегда «по ту сторону», а в будущем или прошлом её могут только локализовать те или иные авторы. Поэтому здесь я бы не согласился.
Заявка на участие
в программе "Города и утопии"
28 октября - 3 ноября 2024
в программе "Города и утопии"
28 октября - 3 ноября 2024
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заявка на участие
в программе "Города и утопии"
28 октября - 3 ноября 2024
в программе "Города и утопии"
28 октября - 3 ноября 2024
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Задать вопрос
о программе для взрослых
«Города и утопии»
28 октября - 3 ноября, 2024
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
