Ляля Кандаурова: «Музыка вообще и классическая в частности обладает огромным коммуникативным потенциалом»
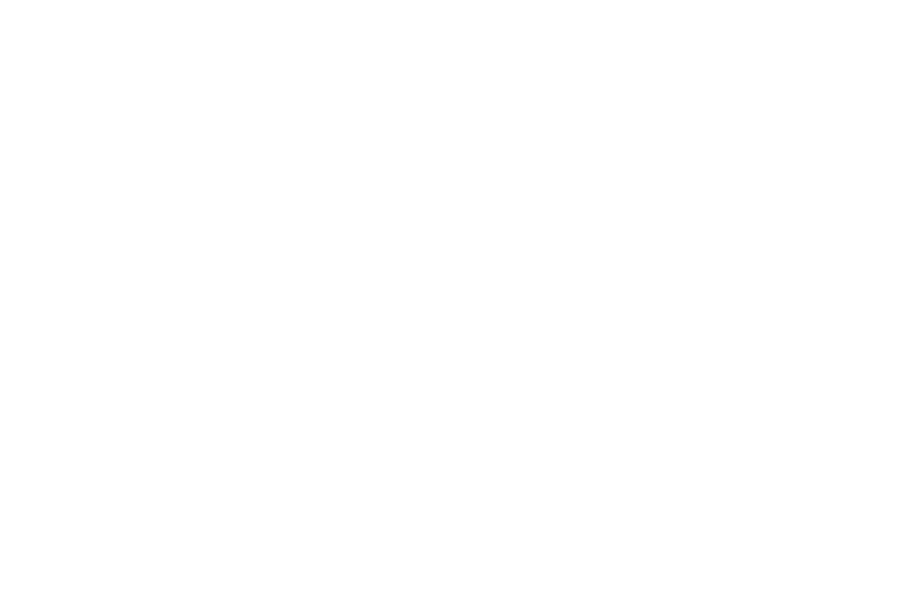
Почему для финала «Меланхолии» Ларс фон Триер в качестве саундтрека выбирает именно «Тристана и Изольду» Вагнера; кто придумал озвучивать диких пчел в мультике про «Маугли» советским синтезатором АНС; почему Алекс Норт обиделся на Стенли Кубрика и как вообще классическая музыка попала в кино — обо всем этом сооснователь «Шатологии» Сергей Кузнецов поговорил Лялей Кандуровой.
Наша программа называется «Опера. Театр. Кино». Про театр будет говорить Илья Кухаренко, про кино — я, а вам достается опера, причем, вероятно, опера в кино?
Я думаю, мы будем говорить про «сложную» музыку в кино вообще. То есть опера, несомненно, будет часто мелькать в наших рассказах, но мне кажется интересным попробовать в целом рассмотреть такой феномен, как работа большого композитора в кино и жизнь академической музыки в кинокадре. Будет много ХХ века, но будут и великие классики; то есть я буду говорить совсем про разную музыку и про то, как она работает внутри фильма.
Я понимаю, что это долгий разговор, но я бы начал с вопроса о том, зачем вообще режиссеры используют классическую музыку в кино.
Для режиссера очень важна коммуникация со зрителем (даже подчеркнутое ее отсутствие можно рассмотреть как форму взаимодействия), а музыка вообще и классическая в частности обладает огромным коммуникативным потенциалом. Конечно, кино не могло игнорировать возможность работать с таким мощным инструментом. Но есть еще одна, весьма приземленная причина, по которой классика в кино появилась на самом раннем этапе его существования. В начале, как мы знаем, кино было немым, то есть его озвучивал тапер или ансамбль музыкантов, в распоряжении которых был набор стандартных пьес, универсальных штампов: погоню озвучивали одним, поцелуй — другим, саспенс — третьим. Чаще всего это были популярные мелодии, но среди них было и много «композиторской» музыки.
Наша программа называется «Опера. Театр. Кино». Про театр будет говорить Илья Кухаренко, про кино — я, а вам достается опера, причем, вероятно, опера в кино?
Я думаю, мы будем говорить про «сложную» музыку в кино вообще. То есть опера, несомненно, будет часто мелькать в наших рассказах, но мне кажется интересным попробовать в целом рассмотреть такой феномен, как работа большого композитора в кино и жизнь академической музыки в кинокадре. Будет много ХХ века, но будут и великие классики; то есть я буду говорить совсем про разную музыку и про то, как она работает внутри фильма.
Я понимаю, что это долгий разговор, но я бы начал с вопроса о том, зачем вообще режиссеры используют классическую музыку в кино.
Для режиссера очень важна коммуникация со зрителем (даже подчеркнутое ее отсутствие можно рассмотреть как форму взаимодействия), а музыка вообще и классическая в частности обладает огромным коммуникативным потенциалом. Конечно, кино не могло игнорировать возможность работать с таким мощным инструментом. Но есть еще одна, весьма приземленная причина, по которой классика в кино появилась на самом раннем этапе его существования. В начале, как мы знаем, кино было немым, то есть его озвучивал тапер или ансамбль музыкантов, в распоряжении которых был набор стандартных пьес, универсальных штампов: погоню озвучивали одним, поцелуй — другим, саспенс — третьим. Чаще всего это были популярные мелодии, но среди них было и много «композиторской» музыки.
А когда кино стало звуковым и понадобилась музыка, написанная специально для кадра, выяснилось, что киномузыки как вида искусства пока не существует, зато есть классика, — именно поэтому в кино тридцатых и сороковых годов классической музыки так много.
Она щедро делилась с кинематографом и своими художественными возможностями, и способностью к внушению эмпатии, и некоторыми языковыми приемами — из музыки Эриха Вольфганга Корнгольда, который был плоть от плоти музыкального мира Вены времен Густава Малера, вышел эпический саунд американских фильмов в широком диапазоне — от «Приключений Робин Гуда» 1938 года до ликующих тем Джона Уильямса. Когда мы смотрим «Brief Encounter» Дэвида Лина (1945), рахманиновская музыка, на которой построен весь фильм, сидит на нем как влитая и воспринимается как органическая часть киноязыка сороковых годов — и это невероятно интересный механизм. В любом случае всегда, соединяясь с кадром, классическая музыка запускает какой-то особый процесс, будь то подключение новых, связанных с ней смыслов или усиление эмоционального впечатления.
То есть предполагается, что зритель заранее знает, какие смыслы заложены внутри классики?
Не обязательно. Классическая музыка устроена так, что самые простые, как может показаться, ее тексты насыщены невероятным количеством информации. Можно написать монографию о какой-нибудь суперизвестной мазурке Шопена или прелюдии из Первой виолончельной сюиты Баха (которую, кстати, не использовал в кино только ленивый). Какая-то часть этой информации извлекается интуитивно и очень легко — надо обладать ушами и слышать, а кем написана эта музыка, когда и в каком контексте — неважно. Но над чувственным, интуитивным слушанием можно возвести еще множество уровней восприятия; обладая чуть большим опытом, ты начинаешь понимать, что, предлагая зрителю ту или иную музыку, режиссер совершает не просто эмоциональный жест, но намекает на какую-то идею или приглашает поиронизировать, отсылает к историческому обстоятельству или ставит свою подпись (как Вуди Аллен с его любимыми трескучими оперными записями начала ХХ века). Возьму самый очевидный пример — финал «Меланхолии» Ларса фон Триера…
Я знаю, что там звучит Вагнер, потому что с этим связан известный скандал. Вероятно, это «Гибель богов», да?
Нет, это музыка из «Тристана и Изольды», что подходит фильму Триера гораздо красивее и точнее, чем если бы это просто была музыка о светопреставлении. Как известно, огромную роль в этой опере играет мотив медленного распада (личного и вселенского, потому что личное в «Тристане» в какой-то момент и есть вселенское). В начале истории Изольда хочет выпить с Тристаном яд, но напиток оказывается подменен, принцесса и рыцарь случайно принимают некий любовный наркотик.
То есть предполагается, что зритель заранее знает, какие смыслы заложены внутри классики?
Не обязательно. Классическая музыка устроена так, что самые простые, как может показаться, ее тексты насыщены невероятным количеством информации. Можно написать монографию о какой-нибудь суперизвестной мазурке Шопена или прелюдии из Первой виолончельной сюиты Баха (которую, кстати, не использовал в кино только ленивый). Какая-то часть этой информации извлекается интуитивно и очень легко — надо обладать ушами и слышать, а кем написана эта музыка, когда и в каком контексте — неважно. Но над чувственным, интуитивным слушанием можно возвести еще множество уровней восприятия; обладая чуть большим опытом, ты начинаешь понимать, что, предлагая зрителю ту или иную музыку, режиссер совершает не просто эмоциональный жест, но намекает на какую-то идею или приглашает поиронизировать, отсылает к историческому обстоятельству или ставит свою подпись (как Вуди Аллен с его любимыми трескучими оперными записями начала ХХ века). Возьму самый очевидный пример — финал «Меланхолии» Ларса фон Триера…
Я знаю, что там звучит Вагнер, потому что с этим связан известный скандал. Вероятно, это «Гибель богов», да?
Нет, это музыка из «Тристана и Изольды», что подходит фильму Триера гораздо красивее и точнее, чем если бы это просто была музыка о светопреставлении. Как известно, огромную роль в этой опере играет мотив медленного распада (личного и вселенского, потому что личное в «Тристане» в какой-то момент и есть вселенское). В начале истории Изольда хочет выпить с Тристаном яд, но напиток оказывается подменен, принцесса и рыцарь случайно принимают некий любовный наркотик.
Он заставляет их испытывать сверхъестественное влечение друг к другу, а еще катализирует этот заторможенный, сладостный распад реальности (катализирует — потому что этот процесс начинается в музыке Вагнера задолго до того, как какое-либо зелье появляется на сцене).
На протяжении нескольких часов той дурманящей музыки, что знакома вам по фильму Триера, герои постепенно расстаются с жизнью — вначале они покидают общепринятую социальную нормальность, потом обитаемый мир как таковой, а в конце оставляют последнее прибежище — свое физическое тело. Собственно, поэтому финальная сцена называется немецким словом Liebestod — в нем два корня, «любовь» и «смерть». Изольда наконец достигает смерти, к которой влюбленные стремились, как к мощному магниту, на протяжении трех действий, и умирает в экстазе, который одновременно агония. Триер взял музыку о конце истории, о мире, который истончается и угасает на глазах; только заканчивается он тут в несколько более тонком смысле, чем в «Гибели богов», где Брунгильда поджигает небо.
Это очень хороший пример того, насколько больше может получить от кино человек, который все это знает про музыку.
Да, и поэтому есть режиссеры, выбирающие именно классику, а не киномузыку, адресованную только для их фильма. Самый хрестоматийный случай, конечно, Стэнли Кубрик. Как известно, он заказал музыку к «Космической Одиссее» Алексу Норту, с которым уже работал, а когда тот написал саундтрек, Кубрик просто не воспользовался им. Норт был чудовищно разозлен; в фильме осталась музыка, которая первоначально служила референсами к тому, чего Кубрик ждал от будущей кинопартитуры. Существует несколько комичное в своем максимализме, но примечательное высказывание Кубрика: «Как бы ни были хороши наши кинокомпозиторы, никто из них не Бетховен, не Моцарт и не Брамс. Зачем брать музыку, которая хуже по качеству, если есть масса прекрасной доступной нам классической музыки».
Но ведь иногда бывает так, что большие композиторы пишут музыку для кино, тот же Шнитке или Губайдулина.
Это отдельная огромная тема. Профессия кинокомпозитора родилась в тридцатых годах, но уже в сороковых становится заметным напряжение между людьми, которые профессионально пишут музыку для кино, и теми, кто занимается «большим искусством» (конечно, берем это в кавычки — сейчас серьезно говорить о «высоком и низком» в этой области невозможно). Мое любимое высказывание на эту тему принадлежит Стравинскому, который сказал, что единственная функция киномузыки — кормить композитора.
Пожалуй, Шнитке был первым, для которого эта система двух миров, иерархия «возвышенного и земного», начала демонтироваться. Как известно, он по-немецки называл это E-musik и U-musik, то есть «серьезная» и «развлекательная» музыка. Начиная с семидесятых годов одно у него все чаще покушается на другое, хотя характерно, что он все еще воспринимал свои киноработы как что-то вынужденное и приземленное, какую-то уступку. Именно на полемике между этими полюсами, будто бы чем-то профанным и чем-то высоким — служением искусству, строится пафос многих работ Шнитке.
При этом я думаю, что, например, Олег Каравайчук совершенно серьезно и со всей истовостью относился к той киномузыке, которую писал. Его уникальное отщепенческое положение, непринадлежность ни к какой школе, традиции (ведь Шнитке, наоборот, был и чувствовал себя наследником всей великолепной громады высокой немецкой музыки) помогали Каравайчуку писать для кино очень просто, очень красиво и при этом невероятно авангардно по сути и смыслу. Однако в консерватории Каравайчука не проходят, и «классические» музыканты его за своего не очень считают, то есть, вероятно, он все-таки остался скорее кинокомпозитором, чем композитором академическим.
А Губайдулина считается академическим композитором?
Разумеется. При этом она тоже работала в кино: гениальная музыка для «Маугли» — это мощный авангардный текст, закамуфлированный под саундтрек для мультфильма. Наверное, вы помните сцену с атакой диких пчел; в детстве никто не задумывался о том, какая сложная музыка там звучит — какое-то шевелящееся, объемное облако электронного звука. Это легендарный советский синтезатор АНС. Интересно, что вкупе с мультфильмом эта музыка воспринимается как очень понятная — смотря «Маугли» в детстве, никто не пугался того, что в музыке Губайдулиной не слышно «раз» и «два», нет мелодии и аккомпанемента, и не бежал сломя голову прочь. Так почему-то часто бывает, когда к головоломной музыке прилагается кинокартинка.
Давайте теперь отвлечемся от темы музыки в кино и немного поговорим про оперу, на которую мы пойдем. Эта опера поставлена по фильму Луиса Бунюэля «Ангел истребления», или, как принято переводить название фильма, «Ангел-истребитель». Когда я услышал об этой опере, я страшно удивился: понятно, почему композитору может прийти в голову написать оперу по мотивам Пушкина или даже Лескова, но опера по кинофильму — вещь гораздо более редкая. И если «Часы» или «Горбатая гора» поставлены по знаменитым оскароносным фильмам, то «Ангел истребления», мягко скажем, не самый знаменитый фильм Бунюэля. Не «Андалузский пес», не «Виридиана», не «Скромное обаяние буржуазии». Как вы думаете, почему Томас Адес обратился именно к этому фильму?
Мне кажется, мы должны допустить самый простой ответ: Адесу понравился этот фильм. Но, конечно, интересней искать ответ более сложный. Давайте вспомним, что кино начинается с того, что группа разряженных аристократов — жемчуга, подвески, вечерние платья — возвращается из неназванного оперного театра; то есть опера как утеха, как буржуазное развлечение присутствует для Бунюэля за кадром. Она ведь исторически связана с гедонистическим началом — приятным времяпрепровождением, красивыми женщинами, пикантными удовольствиями, шикарной архитектурой, а сегодня еще с большими деньгами и тяжелым люксом. И вот герои Бунюэля возвращаются в роскошный дом, где их ждет ужин. Красивая жизнь продолжается — вкусная еда, вино, светские разговоры, — и постепенно мы понимаем, в каких отношениях они находятся между собой.
Это очень хороший пример того, насколько больше может получить от кино человек, который все это знает про музыку.
Да, и поэтому есть режиссеры, выбирающие именно классику, а не киномузыку, адресованную только для их фильма. Самый хрестоматийный случай, конечно, Стэнли Кубрик. Как известно, он заказал музыку к «Космической Одиссее» Алексу Норту, с которым уже работал, а когда тот написал саундтрек, Кубрик просто не воспользовался им. Норт был чудовищно разозлен; в фильме осталась музыка, которая первоначально служила референсами к тому, чего Кубрик ждал от будущей кинопартитуры. Существует несколько комичное в своем максимализме, но примечательное высказывание Кубрика: «Как бы ни были хороши наши кинокомпозиторы, никто из них не Бетховен, не Моцарт и не Брамс. Зачем брать музыку, которая хуже по качеству, если есть масса прекрасной доступной нам классической музыки».
Но ведь иногда бывает так, что большие композиторы пишут музыку для кино, тот же Шнитке или Губайдулина.
Это отдельная огромная тема. Профессия кинокомпозитора родилась в тридцатых годах, но уже в сороковых становится заметным напряжение между людьми, которые профессионально пишут музыку для кино, и теми, кто занимается «большим искусством» (конечно, берем это в кавычки — сейчас серьезно говорить о «высоком и низком» в этой области невозможно). Мое любимое высказывание на эту тему принадлежит Стравинскому, который сказал, что единственная функция киномузыки — кормить композитора.
Пожалуй, Шнитке был первым, для которого эта система двух миров, иерархия «возвышенного и земного», начала демонтироваться. Как известно, он по-немецки называл это E-musik и U-musik, то есть «серьезная» и «развлекательная» музыка. Начиная с семидесятых годов одно у него все чаще покушается на другое, хотя характерно, что он все еще воспринимал свои киноработы как что-то вынужденное и приземленное, какую-то уступку. Именно на полемике между этими полюсами, будто бы чем-то профанным и чем-то высоким — служением искусству, строится пафос многих работ Шнитке.
При этом я думаю, что, например, Олег Каравайчук совершенно серьезно и со всей истовостью относился к той киномузыке, которую писал. Его уникальное отщепенческое положение, непринадлежность ни к какой школе, традиции (ведь Шнитке, наоборот, был и чувствовал себя наследником всей великолепной громады высокой немецкой музыки) помогали Каравайчуку писать для кино очень просто, очень красиво и при этом невероятно авангардно по сути и смыслу. Однако в консерватории Каравайчука не проходят, и «классические» музыканты его за своего не очень считают, то есть, вероятно, он все-таки остался скорее кинокомпозитором, чем композитором академическим.
А Губайдулина считается академическим композитором?
Разумеется. При этом она тоже работала в кино: гениальная музыка для «Маугли» — это мощный авангардный текст, закамуфлированный под саундтрек для мультфильма. Наверное, вы помните сцену с атакой диких пчел; в детстве никто не задумывался о том, какая сложная музыка там звучит — какое-то шевелящееся, объемное облако электронного звука. Это легендарный советский синтезатор АНС. Интересно, что вкупе с мультфильмом эта музыка воспринимается как очень понятная — смотря «Маугли» в детстве, никто не пугался того, что в музыке Губайдулиной не слышно «раз» и «два», нет мелодии и аккомпанемента, и не бежал сломя голову прочь. Так почему-то часто бывает, когда к головоломной музыке прилагается кинокартинка.
Давайте теперь отвлечемся от темы музыки в кино и немного поговорим про оперу, на которую мы пойдем. Эта опера поставлена по фильму Луиса Бунюэля «Ангел истребления», или, как принято переводить название фильма, «Ангел-истребитель». Когда я услышал об этой опере, я страшно удивился: понятно, почему композитору может прийти в голову написать оперу по мотивам Пушкина или даже Лескова, но опера по кинофильму — вещь гораздо более редкая. И если «Часы» или «Горбатая гора» поставлены по знаменитым оскароносным фильмам, то «Ангел истребления», мягко скажем, не самый знаменитый фильм Бунюэля. Не «Андалузский пес», не «Виридиана», не «Скромное обаяние буржуазии». Как вы думаете, почему Томас Адес обратился именно к этому фильму?
Мне кажется, мы должны допустить самый простой ответ: Адесу понравился этот фильм. Но, конечно, интересней искать ответ более сложный. Давайте вспомним, что кино начинается с того, что группа разряженных аристократов — жемчуга, подвески, вечерние платья — возвращается из неназванного оперного театра; то есть опера как утеха, как буржуазное развлечение присутствует для Бунюэля за кадром. Она ведь исторически связана с гедонистическим началом — приятным времяпрепровождением, красивыми женщинами, пикантными удовольствиями, шикарной архитектурой, а сегодня еще с большими деньгами и тяжелым люксом. И вот герои Бунюэля возвращаются в роскошный дом, где их ждет ужин. Красивая жизнь продолжается — вкусная еда, вино, светские разговоры, — и постепенно мы понимаем, в каких отношениях они находятся между собой.
А потом эта реальность вдруг без предупреждения дает сбой — происходит нечто паранормальное, причем причину этого Бунюэль, конечно, не считает нужным нам сообщить. После окончания вечеринки гости обнаруживают себя неспособными покинуть комнату, где находятся.
То есть они не могут просто переступить порог и выйти. Время идет, они в заточении, и на протяжении фильма мы смотрим, как эти нарядные, хорошо воспитанные люди мало-помалу теряют человеческий облик.
Несомненно, для Бунюэля опера — эмблема буржуазного мира, его утех и развлечений, а Адес пишет «оперу об оперной публике в ловушке», в известном смысле высмеивая тем самым заведомую буржуазность своих зрителей; на премьере в Зальцбурге в 2016 году бриллиантов и жемчуга, думаю, было побольше, чем в фильме Бунюэля. Но именно эти люди пришли в театр, купив билеты за немаленькие деньги, это они будут аплодировать в конце, это им почему-то нужна и интересна сложная, жесткая, абсурдистская работа Адеса. То есть можно смотреть на это так, что смеется он в конечном итоге над собой, а со зрителями говорит вполне искренне и о серьезных вещах. Это присутствие сентиментальности и насмешки в одном и том же художественном жесте, пресловутый эффект двойных кавычек. Мне кажется, что в самой этой идее есть прелесть. Но, повторюсь, может статься, что мы усложняем, и было так — Адес увидел фильм Бунюэля, и ему, как часто бывает с каждым из нас, пришла в голову идея: а вот было бы здорово написать оперу о том, как группа аристократов вернулась с оперного спектакля и попала на дьявольский званый ужин, который не может закончиться.
Мне кажется, мы вернулись к тому, с чего начинали. Если смотреть кино, где звучит классическая музыка, и при этом хорошо разбираться в классической музыке, то получаешь больше удовольствия. Если смотреть оперу Адеса, уже зная фильм Бунюэля (и вообще историю Бунюэля), то в этой опере появляется дополнительный объем.
Это очевидно. Но мне дорого и обратное. Даже впервые слыша о вагнеровском «Тристане», зритель способен расшифровать очень многое из того, что заложено Триером в сочетании музыки и картинки. Придя в театр и ничего не зная о Бунюэле или сюрреализме, зритель просто попадает на потрясающую, совершенно безумную оперу, которая, возможно, произведет на кого-то даже более сильное впечатление, чем если бы он был уже подготовлен. Одним словом, мне нравится необязательность всей этой интертекстуальности — она дает свободу.
Несомненно, для Бунюэля опера — эмблема буржуазного мира, его утех и развлечений, а Адес пишет «оперу об оперной публике в ловушке», в известном смысле высмеивая тем самым заведомую буржуазность своих зрителей; на премьере в Зальцбурге в 2016 году бриллиантов и жемчуга, думаю, было побольше, чем в фильме Бунюэля. Но именно эти люди пришли в театр, купив билеты за немаленькие деньги, это они будут аплодировать в конце, это им почему-то нужна и интересна сложная, жесткая, абсурдистская работа Адеса. То есть можно смотреть на это так, что смеется он в конечном итоге над собой, а со зрителями говорит вполне искренне и о серьезных вещах. Это присутствие сентиментальности и насмешки в одном и том же художественном жесте, пресловутый эффект двойных кавычек. Мне кажется, что в самой этой идее есть прелесть. Но, повторюсь, может статься, что мы усложняем, и было так — Адес увидел фильм Бунюэля, и ему, как часто бывает с каждым из нас, пришла в голову идея: а вот было бы здорово написать оперу о том, как группа аристократов вернулась с оперного спектакля и попала на дьявольский званый ужин, который не может закончиться.
Мне кажется, мы вернулись к тому, с чего начинали. Если смотреть кино, где звучит классическая музыка, и при этом хорошо разбираться в классической музыке, то получаешь больше удовольствия. Если смотреть оперу Адеса, уже зная фильм Бунюэля (и вообще историю Бунюэля), то в этой опере появляется дополнительный объем.
Это очевидно. Но мне дорого и обратное. Даже впервые слыша о вагнеровском «Тристане», зритель способен расшифровать очень многое из того, что заложено Триером в сочетании музыки и картинки. Придя в театр и ничего не зная о Бунюэле или сюрреализме, зритель просто попадает на потрясающую, совершенно безумную оперу, которая, возможно, произведет на кого-то даже более сильное впечатление, чем если бы он был уже подготовлен. Одним словом, мне нравится необязательность всей этой интертекстуальности — она дает свободу.
Заявка на участие
в программе для взрослых
«ОПЕРА, ТЕАТР, КИНО В ШАТО LE SALLAY»
26 февраля – 3 марта, 2024
в программе для взрослых
«ОПЕРА, ТЕАТР, КИНО В ШАТО LE SALLAY»
26 февраля – 3 марта, 2024
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заявка на участие
в программе для взрослых
«ОПЕРА, ТЕАТР, КИНО В ШАТО LE SALLAY»
26 февраля – 3 марта, 2024
в программе для взрослых
«ОПЕРА, ТЕАТР, КИНО В ШАТО LE SALLAY»
26 февраля – 3 марта, 2024
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Задать вопрос
о программе для взрослых
«ОПЕРА, ТЕАТР, КИНО В ШАТО LE SALLAY»
26 февраля – 3 марта, 2024
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности

