Борис Иомдин:
«"Пока" — это же союз! А как можно прощаться союзом?»
«"Пока" — это же союз! А как можно прощаться союзом?»
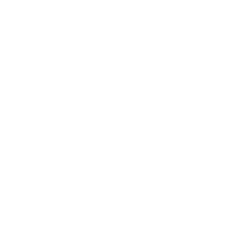
Лингвист, преподаватель, автор множества лингвистических задач и любитель языковых игр Борис Иомдин впервые едет на «Шатологию» рассказывать, что же делает язык языком. Будет масса неочевидных открытий, историй, загадок и лингвистических анекдотов. Даже если вы считаете себя знатоками русского языка, приготовьтесь удивиться.
“
В недавнем исследовании мы с коллегами сравнивали язык дневников первой половины XX века с современными блогами, анализировали, какие слова за последние восемьдесят-сто лет ушли, а какие появились. И неожиданно обнаружили, что ушло очень много заимствований. Вместо „визитировать“ сейчас говорят „ходить в гости“, вместо „телефонировать“ — „звонить“, „аэроплан“ уступил место „самолету“. И это естественный процесс.
— Ваша программа называется «Что делает язык языком». А есть ли что-то, без чего язык может обойтись?
Да — например, письменность. Около половины всех языков мира (может, чуть меньше) прекрасно живут без букв, без иероглифов, без письма. Конечно, по количеству носителей это не самые большие языки, и все же нельзя сказать, что это редкость. Или, например, цыганский язык: у него нет единой письменной нормы, в зависимости от местонахождения его носители используют письменность на основе кириллицы, латиницы или даже деванагари (индийского алфавита). Есть сербский язык, у которого две письменности — латиница и кириллица. Современные арабские языки тоже можно было бы в какой-то момент назвать бесписьменными, как бы странно это ни звучало. Людей, говорящих на арабском языке, по разным подсчетам, — до трехсот миллионов. Но есть литературный арабский — тот, на котором написан Коран и другие книги. А есть множество диалектов, существенно отличающихся друг от друга и от литературного языка, которые вполне можно было бы считать отдельными языками. До эпохи интернета на них писали очень мало, потому что классический арабский, священный язык Корана, плохо предназначен для того, чтобы им записывать современные диалектные слова. Когда интернет стал распространяться, многие арабы использовали для общения латиницу. Сейчас в целом большинство носителей современных арабских языков используют для переписки арабские буквы, но о литературной норме для них говорить трудно.
— Вы — автор множества лингвистических задач и книги про шарады. За что именно вы любите игры со словами?
Когда-то великий лингвист Андрей Зализняк придумал самодостаточные лингвистические задачи. Ты смотришь на текст на неизвестном тебе языке, на его перевод и вдруг обнаруживаешь какие-то закономерности. Это увлекательная головоломка, меня она сразу захватила. Идея Зализняка — не только в том, чтобы играть со словами и разгадывать пазл, но и в том, чтобы узнать что-то реально интересное. Ведь каждая задача что-то рассказывает о том языке, который использует.
А придумывание таких задач — это вызов другого рода. Нужно то, что лингвисты изучали десятилетиями, уложить в мини-формат, когда ты сам можешь исследовать и повторить открытие за лингвистом. Это не так просто сделать в других науках — как можно повторить великое физическое открытие за час, когда ты ничего не умеешь? А в лингвистике это возможно, потому что тебе дан твой язык, ты им владеешь, и это твой инструмент решения.
У того же Зализняка была замечательная задача. Даны слова «дверь», «горсть», «тень», «лошадь», «постель», «кровать». Известно, что одно из этих слов поменяло род в русском языке, и надо его найти. Но ведь ты не изучал древнерусский язык, ты не знаешь, как и что менялось. Начинаешь крутить слова в голове, образовывать слова от глаголов — не получается. Потом пробуешь уменьшительно-ласкательные: дверь — дверка, постель — постелька, лошадь — лошадка… И вдруг: тень — тенёк. Оказывается, уменьшительное — почти всегда такого же рода, как и основное слово. Значит, «тень» действительно поменяла род. И это восторг от открытий в родном или даже чужом языке.
А придумывание таких задач — это вызов другого рода. Нужно то, что лингвисты изучали десятилетиями, уложить в мини-формат, когда ты сам можешь исследовать и повторить открытие за лингвистом. Это не так просто сделать в других науках — как можно повторить великое физическое открытие за час, когда ты ничего не умеешь? А в лингвистике это возможно, потому что тебе дан твой язык, ты им владеешь, и это твой инструмент решения.
У того же Зализняка была замечательная задача. Даны слова «дверь», «горсть», «тень», «лошадь», «постель», «кровать». Известно, что одно из этих слов поменяло род в русском языке, и надо его найти. Но ведь ты не изучал древнерусский язык, ты не знаешь, как и что менялось. Начинаешь крутить слова в голове, образовывать слова от глаголов — не получается. Потом пробуешь уменьшительно-ласкательные: дверь — дверка, постель — постелька, лошадь — лошадка… И вдруг: тень — тенёк. Оказывается, уменьшительное — почти всегда такого же рода, как и основное слово. Значит, «тень» действительно поменяла род. И это восторг от открытий в родном или даже чужом языке.
— Как вы придумываете задачи? Берете словари и думаете, чего бы такого вытащить?
Я никогда так не делаю. Я всегда придумываю задачу, если мне попался какой-то интересный факт. Язык хорош тем, что предмет твоего изучения всегда у тебя под рукой. Я читаю что-нибудь, слушаю, думаю, и вдруг — ого! Из случайной неправильности, несуразности в речи вырастает целая история, которую можно превратить в загадку. Я веду телеграм-канал «Узнал новое слово», где каждый день публикую слово, которое узнал в этот день. У меня нет списков или планов на месяц, я просто много читаю, листаю ленты социальных сетей, слушаю людей вокруг. И всегда попадается что-то новое. Например, незадолго до нашего разговора я узнал слово «санджел» — это детская игра, у которой есть около двадцати вариантов названий. Ни одно из них я никогда не слышал, мне просто попался пост про тех, кто в нее играет.
— Одна из тем курса, который вы везете на «Шатологию», называется «Почему слова нам могут нравиться или бесить?». А есть ли какие-то языковые изменения последних лет или десятилетий, которые вам нравятся или, наоборот, бесят?
Я, как и многие лингвисты, вижу себя в двух ролях. Один человек — это носитель языка, тот, кто слушает и говорит. Другой — исследователь. Как носитель я ужасно консервативен. Я на самом деле не люблю новые слова и крайне неохотно ввожу их в свою речь, особенно если на месте нового слова уже и так было старое. С другой стороны, я люблю исследовать, как люди говорят.
Так что не могу сказать, что есть какие-то новые слова или изменения, которые меня однозначно бесят. Просто сам я ими нечасто пользуюсь.
— Вы как-то сказали, что борьба языковых пуристов с заимствованиями — вечная проблема. Кажется, что язык умеет сам отказываться от того, что ему не нужно, и борьба за его чистоту — ненужная работа. Или нужная?
Большинство лингвистов считают, что да, язык сам прекрасно очищается, а заимствования приживаются, только если они нужны. В недавнем исследовании мы с коллегами сравнивали язык дневников первой половины XX века с современными блогами, анализировали, какие слова за последние восемьдесят-сто лет ушли, а какие появились. И неожиданно обнаружили, что ушло очень много заимствований. Вместо «визитировать» сейчас говорят «ходить в гости», вместо «телефонировать» — «звонить», «аэроплан» уступил место «самолету» (хотя сначала это слово казалось смешным). Это довольно естественный процесс.
Но есть и языки, которые развивались не совсем в естественных условиях. Например, иврит — уникальный случай возрожденного языка.
Но есть и языки, которые развивались не совсем в естественных условиях. Например, иврит — уникальный случай возрожденного языка.
Сионисты, которые строили современный Израиль, думали, какой же язык выбрать для нового государства — по разным историческим причинам им мог стать английский, немецкий, русский, идиш. Но выбрали иврит, который почти ни для кого не был родным.
Была реальная опасность, что в древний возрожденный иврит все новые слова придут из других языков. Чтобы этого не случилось, основали Академию языка иврит, цель которой — именно что следить за чистотой. Анекдот состоит в том, что она называется «академия», а это, как мы знаем, греческое слово. Но те, кто в ней работает, говорят, что было голосование: придумать ивритское слово или оставить академию. Решили оставить, поскольку это показывает связь с международным контекстом. Вообще первая академия появилась во Франции и следила за чистотой французского языка. В России была Императорская академия наук, составлявшая словарь русского языка, — тоже такая пуристическая работа.
С другой стороны, есть пример чешского языка. Когда-то была опасность, что он рухнет под влиянием немецкого — слишком уж много заимствований, а статуса государственного языка у чешского тогда не было. И началась борьба, в результате которой теперь есть слово jízdenka вместо «билета» или letadlo вместо «аэроплана». Так что в случае реальной угрозы для языка охранительство в какой-то степени может быть оправдано. Сам я не разделяю любовь к пуризму. Если почитать, как пуристы ругали русский за новые слова в XVII–XX веках, видно: часто речь идет о том, что сейчас абсолютно естественно. Как люди могли жить без слова «пока», когда сейчас все так прощаются? А тогда говорили: «Боже, что это за слово? Это же союз. Как можно прощаться союзом?» Привыкли.
С другой стороны, есть пример чешского языка. Когда-то была опасность, что он рухнет под влиянием немецкого — слишком уж много заимствований, а статуса государственного языка у чешского тогда не было. И началась борьба, в результате которой теперь есть слово jízdenka вместо «билета» или letadlo вместо «аэроплана». Так что в случае реальной угрозы для языка охранительство в какой-то степени может быть оправдано. Сам я не разделяю любовь к пуризму. Если почитать, как пуристы ругали русский за новые слова в XVII–XX веках, видно: часто речь идет о том, что сейчас абсолютно естественно. Как люди могли жить без слова «пока», когда сейчас все так прощаются? А тогда говорили: «Боже, что это за слово? Это же союз. Как можно прощаться союзом?» Привыкли.
— На майской «Шатологии» вместе с вами будет читать курс искусствовед Оксана Санжарова. Если бы русский язык был произведением искусства, то каким?
Очень ярким, многогранным. Наверное, пьесой, в которой у каждого есть своя роль. И это разножанровая пьеса — трагическая, комическая и музыкальная одновременно. Потому что в русском языке исторически было много всего: борьба, падения и т. д. Кстати, из этого может получиться неплохой сериал!
Заявка на участие
в программе «Весна в Бургундии»
с 1 по 7 мая'25
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Задать вопрос
о программе «Весна в Бургундии»
1 – 7 мая 2025
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности


