Виктор Вахштайн: Жизнь между рутиной и историей
«Исторический опыт выламывается и из повседневности, и из биографии — для него не находится подходящей социальной ячейки. Рамки для таких событий людям приходится искать не в репертуаре привычных сюжетов, а в учебниках истории. Отсюда — эпидемия исторических аналогий»
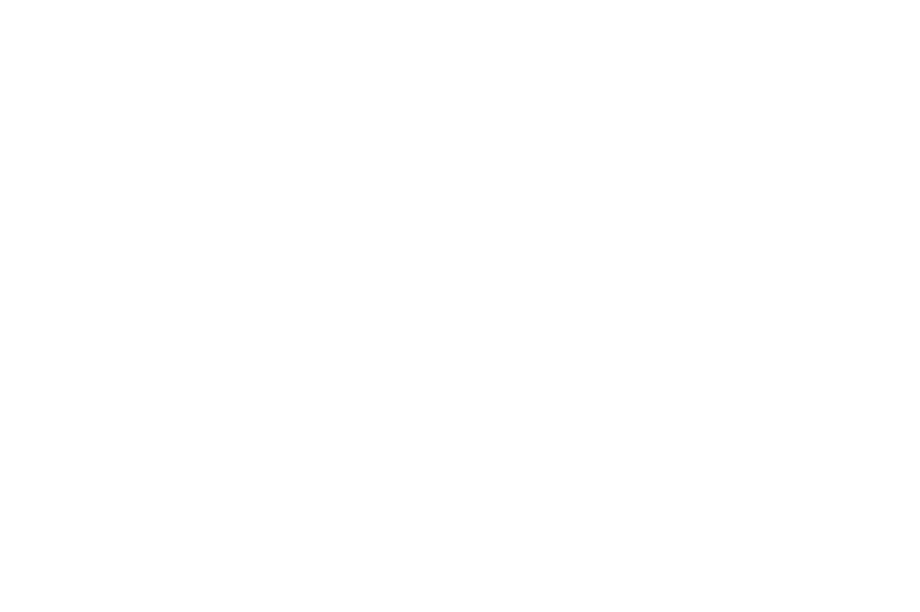
На зимней «Шатологии» мы позволим себе выпасть из рутины и погрузиться в постновогодний гедонизм — но сделаем это глубоко интеллектуально. Социолог Виктор Вахштайн объяснит, почему первая январская неделя безвременья — социально значимое явление, а еще расскажет, как ритуалы и технологии меняют наше восприятие времени и как личная память становится частью большой истории. Мы спросили, как это будет.
«Шатология»: Одна из тем курса — «Что значит "стать свидетелем исторического события"», — и тут у любого из нас в последние несколько лет есть что рассказать. Но как понять, когда наш опыт становится частью общей истории, а когда остается лишь частной памятью?
Виктор Вахштайн: Давайте начнем с памяти. Наша «частная память» куда более «общественна», чем принято считать. Мы вспоминаем те или иные события, облекая их в форму рассказа. В таком повествовании – даже если мы рассказываем историю исключительно самим себе и про себя — есть структура, композиция, персонажи, жанровые рамки, фигуры речи. А если мы рассказываем ее другим (детям, друзьям или, не приведи господь, следователю), появляется еще и «эффект свидетеля». Содержание памяти не хранится в чертогах разума, оно создается и пересоздается в процессе воспоминания. Процесс этот — что-то вроде быстрого индивидуального потока, который течет в жестком социальном русле.
Другое дело, что большая часть наших воспоминаний почерпнута из обыденной жизни. В сочинении «Как я провел это лето» вы воспроизводите повседневные события в повседневном контексте. Рассказывая внукам историю на тему «Как я встретил вашу бабушку», вы превращаете повседневное событие в биографическое, знаковое, судьбоносное. Но все же не в историческое.
Виктор Вахштайн: Давайте начнем с памяти. Наша «частная память» куда более «общественна», чем принято считать. Мы вспоминаем те или иные события, облекая их в форму рассказа. В таком повествовании – даже если мы рассказываем историю исключительно самим себе и про себя — есть структура, композиция, персонажи, жанровые рамки, фигуры речи. А если мы рассказываем ее другим (детям, друзьям или, не приведи господь, следователю), появляется еще и «эффект свидетеля». Содержание памяти не хранится в чертогах разума, оно создается и пересоздается в процессе воспоминания. Процесс этот — что-то вроде быстрого индивидуального потока, который течет в жестком социальном русле.
Другое дело, что большая часть наших воспоминаний почерпнута из обыденной жизни. В сочинении «Как я провел это лето» вы воспроизводите повседневные события в повседневном контексте. Рассказывая внукам историю на тему «Как я встретил вашу бабушку», вы превращаете повседневное событие в биографическое, знаковое, судьбоносное. Но все же не в историческое.
В этом, собственно, и состоит специфика исторического опыта. Он выламывается и из повседневности, и из биографии. Ему не находится подходящей социальной ячейки, в которую его можно было бы поместить для последующего рассказа и обсуждения.
Рамки для таких событий людям приходится искать не в репертуаре привычных сюжетов, а в учебниках истории. Отсюда — эпидемия исторических аналогий: «Это как 1937-й», «Это как 1941-й».
На лекциях мы поговорим поподробнее, как историки и социологи пытаются осмыслить этот факт столкновения с историческим временем — через идеи «возвышенного исторического опыта» Франклина Анкерсмита и «времени судьбы» Георга Зиммеля.
«Ш.»: Можно ли сказать, что праздники тоже «выламываются из рутины»? И почему некоторые из них, вроде Нового года, действительно создают какие-то коллективные переживания, а другие остаются просто дополнительными выходными днями?
В. В.: Из рутины выламываются только те праздники, которые связаны с участием в ритуалах — неважно, светских или религиозных, семейных (вроде дня рожденья) или народных (вроде Нового года). Ритуал — это санкционированная обществом приостановка рутины.
Благодаря ритуальным практикам люди напоминают сами себе, что временем повседневности жизнь не ограничивается. Есть другие временные горизонты. У аборигенов — сакральное время, время богов. У современных государств — история. Из исторических событий, которые на индивидуальном уровне переживаются как «падение метеорита» или «пробóй диэлектрика», государства пытаются создавать свою собственную биографию, учреждая праздники и памятные даты, организуя парады и демонстрации. Отчасти поэтому навязанные сверху государственные ритуалы всегда воспринимаются с долей скепсиса. В отличие от ритуалов светской сакральности — типа Нового года.
«Ш.»: Но Новый год стоит особняком даже среди таких ритуалов.
В. В.: В силу двух факторов: массовости и длительности. Сначала — массовое празднование. Тотальная синхронизация. Садясь за новогодний стол с друзьями, вы знаете, что сейчас то же самое делают миллионы незнакомых вам людей. И если ваши близкие находятся в других часовых поясах, вы считаете своим долгом позвонить им и поздравить их по «их времени». Но за синхронизацией следует неделя «безвременья». Период, когда социальное принуждение не действует. Вы ложитесь позже и встаете не по будильнику. Ритуала уже нет, рутины еще нет. Из события праздник становится процессом. На лекциях мы как раз будем говорить о механизмах синхронизации и рассинхронизации — как они эволюционировали в разных культурах.
«Ш.»: Можно ли сказать, что сегодня такие механизмы связаны не столько с праздниками, сколько с технологиями? Как все эти онлайн-расписания, напоминания, бесконечные уведомления меняют наше восприятие времени?
В. В.: Технологии меняют наше восприятие времени на всех уровнях. Исторические события теперь воспринимаются иначе благодаря скорости передачи видеосообщений. Я читаю о запуске ракет по моему городу, через минуту наблюдаю видео перехватов почти в реальном времени, и да, «время подлета» для меня не метафора. Повседневные события теперь ритмизированы тоже не так, как тридцать лет назад. Заводской гудок — в телефоне. Взятые на себя обязательства — в умных часах. Но для социологов важнее другое изменение — то, о котором мы говорили выше: как технологии синхронизируют ритмы жизни людей?
Наша идея одновременности все еще создана романом и газетой, то есть технологиями прежней эпохи. Открывая газету, вы узнавали, что «труженики» собрали рекордный урожай, «мировые лидеры» приняли историческое решение, «ученые» открыли что-то сногсшибательное, а «ограниченный контингент войск» захватил очередной плацдарм. Сегодня вы вместо газеты открываете социальную сеть. И видите совершенно иную мозаику синхронных событий.
Вот об этом – о синхронизации и рассинхронизации, времени повседневности и времени биографии, исторических событиях и технологических изменениях – мы и поговорим на «Шатологии».
На лекциях мы поговорим поподробнее, как историки и социологи пытаются осмыслить этот факт столкновения с историческим временем — через идеи «возвышенного исторического опыта» Франклина Анкерсмита и «времени судьбы» Георга Зиммеля.
«Ш.»: Можно ли сказать, что праздники тоже «выламываются из рутины»? И почему некоторые из них, вроде Нового года, действительно создают какие-то коллективные переживания, а другие остаются просто дополнительными выходными днями?
В. В.: Из рутины выламываются только те праздники, которые связаны с участием в ритуалах — неважно, светских или религиозных, семейных (вроде дня рожденья) или народных (вроде Нового года). Ритуал — это санкционированная обществом приостановка рутины.
Благодаря ритуальным практикам люди напоминают сами себе, что временем повседневности жизнь не ограничивается. Есть другие временные горизонты. У аборигенов — сакральное время, время богов. У современных государств — история. Из исторических событий, которые на индивидуальном уровне переживаются как «падение метеорита» или «пробóй диэлектрика», государства пытаются создавать свою собственную биографию, учреждая праздники и памятные даты, организуя парады и демонстрации. Отчасти поэтому навязанные сверху государственные ритуалы всегда воспринимаются с долей скепсиса. В отличие от ритуалов светской сакральности — типа Нового года.
«Ш.»: Но Новый год стоит особняком даже среди таких ритуалов.
В. В.: В силу двух факторов: массовости и длительности. Сначала — массовое празднование. Тотальная синхронизация. Садясь за новогодний стол с друзьями, вы знаете, что сейчас то же самое делают миллионы незнакомых вам людей. И если ваши близкие находятся в других часовых поясах, вы считаете своим долгом позвонить им и поздравить их по «их времени». Но за синхронизацией следует неделя «безвременья». Период, когда социальное принуждение не действует. Вы ложитесь позже и встаете не по будильнику. Ритуала уже нет, рутины еще нет. Из события праздник становится процессом. На лекциях мы как раз будем говорить о механизмах синхронизации и рассинхронизации — как они эволюционировали в разных культурах.
«Ш.»: Можно ли сказать, что сегодня такие механизмы связаны не столько с праздниками, сколько с технологиями? Как все эти онлайн-расписания, напоминания, бесконечные уведомления меняют наше восприятие времени?
В. В.: Технологии меняют наше восприятие времени на всех уровнях. Исторические события теперь воспринимаются иначе благодаря скорости передачи видеосообщений. Я читаю о запуске ракет по моему городу, через минуту наблюдаю видео перехватов почти в реальном времени, и да, «время подлета» для меня не метафора. Повседневные события теперь ритмизированы тоже не так, как тридцать лет назад. Заводской гудок — в телефоне. Взятые на себя обязательства — в умных часах. Но для социологов важнее другое изменение — то, о котором мы говорили выше: как технологии синхронизируют ритмы жизни людей?
Наша идея одновременности все еще создана романом и газетой, то есть технологиями прежней эпохи. Открывая газету, вы узнавали, что «труженики» собрали рекордный урожай, «мировые лидеры» приняли историческое решение, «ученые» открыли что-то сногсшибательное, а «ограниченный контингент войск» захватил очередной плацдарм. Сегодня вы вместо газеты открываете социальную сеть. И видите совершенно иную мозаику синхронных событий.
Вот об этом – о синхронизации и рассинхронизации, времени повседневности и времени биографии, исторических событиях и технологических изменениях – мы и поговорим на «Шатологии».
Заявка на участие
в программе «Зима в Бургундии»
шато Le Sallay • 3 – 9 января'26
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Вопрос
о программе «Зима в Бургундии»
шато Le Sallay • 3 – 9 января'26
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности


