«Законы против роскоши… мне кажется, они унижают человеческое достоинство и говорят: „Знай свое место“. И, конечно, они хорошо вписываются в идею некой „предустановленности“ времен позднего Средневековья и раннего модерна».
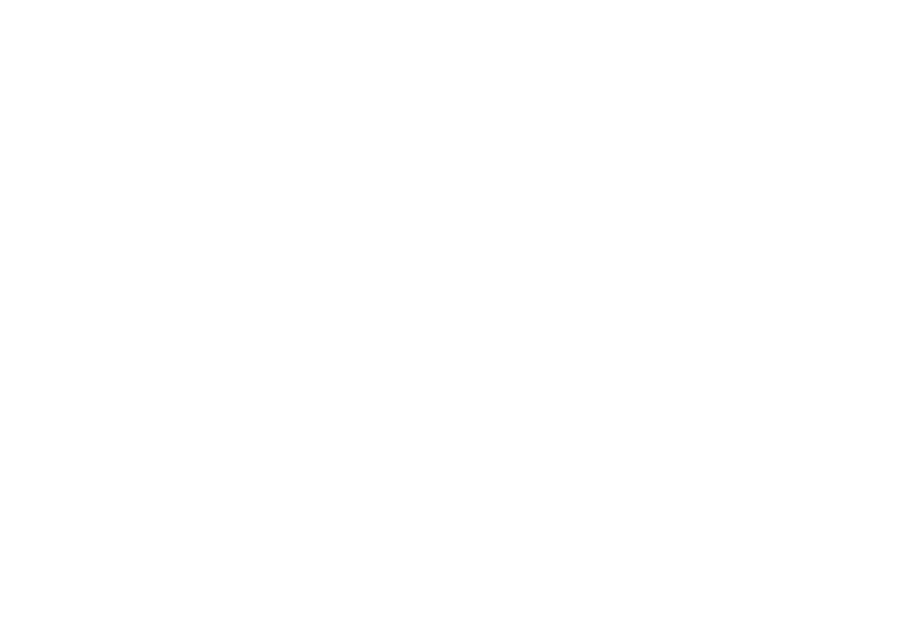
Есть тарелки, но нет аппетита.
Есть обручальные кольца, но нет взаимности
по меньшей мере уже триста лет.
Есть веер — где румянец?
Есть мечи — где гнев?
И лютня не звенит в сумерках.
Из-за отсутствия вечности собраны
десять тысяч старых вещей.
Замшелый сторож дремлет сладко,
свесив усы над витриной.
Металл, глина, птичье перышко
тихо празднуют триумф во времени.
Хохочет только шпилька, принадлежавшая хохотушке из Египта.
Корона пережила голову.
Проиграла перчатке ладонь.
Победил ногу правый ботинок.
Что до меня, я живу, пожалуйста, верьте.
Мое соревнование с одеждой продолжается.
А как она сопротивляется!
А как ей хочется пережить!
«Музей», Вислава Шимборская
(перевод Ольги Чепельской)
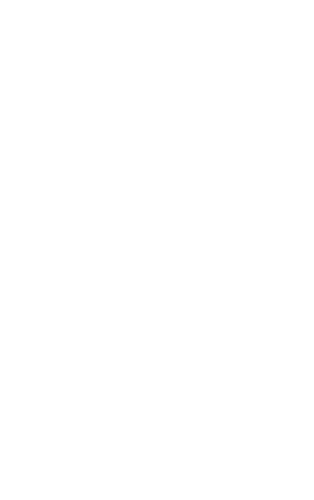
Дильшат Харман: Такой «костюмный код» довольно редко был сознательно закодированным посланием. На портретах XVI–XVII веков можно встретить необычные украшения — с буквами, символами, особенно на аристократических портретах, но чаще всего в них не было загадки для избранных, как мы привыкли думать сейчас. Часто трактовки XIX–XX веков основаны на догадках, когда забывается оригинальный смысл. Скажем, есть один портрет, про который долго думали, что это портрет королевы Елизаветы I, будто бы беременной. Но потом оказалось, что это не она, а все «тайные знаки» в одежде, которые находили исследователи, не означали практически ничего. Конечно, цвета и символы имели свои значения, считывались легко, но со временем и поколениями понимание терялось. На самом деле то же самое происходит и у нас сейчас, потому что значение даже самой простой одежды быстро меняется. Например, мини-юбка в 1990-х ассоциировалась с вызовом, а лет пять спустя стала обыденной вещью. В XVI веке изменения были не столь стремительны, но они были: например, в начале века шляпа для женщины была чем-то непредставимым, потому что считалась мужским аксессуаром, но через пятнадцать лет стала нормой для благородных и богатых дам. Поэтому именно контекст — страна, город, год — во многом определяет смысл портрета.
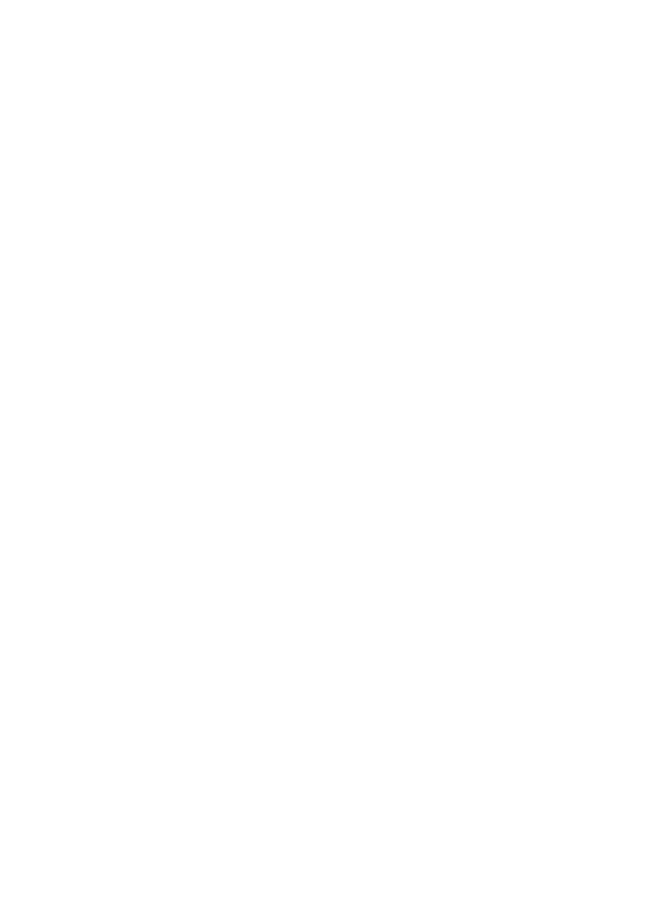
Д. Х.: Да, при некоторой подготовке можно определить социальный класс или страну. Без специального знания истории костюма, конечно, будет сложно — мне, например, сложно понять, что означает та или иная одежда на китайских изображениях. Но если изучать костюм, задача становится намного проще: можно определить положение в обществе, семейный статус женщины, а иногда даже детали биографии. Это как навык — к концу курса с этим все справляются.
«Ш.»: Одна из лекций курса посвящена «Маленькой книжечке одежды», которую аугсбургский бухгалтер Маттеус Шварц, типичный представитель своего слоя, вел на протяжении всей жизни, описывая приобретенные им наряды. А сколько нарядов за всю жизнь приобретал такой типичный бухгалтер?
Д. Х.: Точных подсчетов именно для нашего героя я нигде не встречала, но в целом количество предметов одежды для людей XVI–XVII веков восстановимо: есть инвентари, описи имущества и завещания, а в них, как правило, перечисляется одежда, которая была в собственности у того или иного человека. У ремесленников обычно было до десяти рубашек, у мастеров — до двадцати, у патрициев больше. Например, у нюрнбергского патриция Виллибальда Пиркгеймера, друга Дюрера, — сорок три рубашки и двадцать семь воротничков, плюс несколько верхних плащей и дублетов. Аксессуаров — по семь — десять: пояса, сумочки, шляпы, сеточки для волос. Не знаю, много это или мало на наш сегодняшний взгляд, но мне кажется, что в сущности сопоставимо, особенно в том, что касается богатых людей, с современным гардеробом.
У мужской одежды того времени, впрочем, как и у женской, был принцип нескольких слоев. Нижний слой — рубашка, потом на нее надевался какой-нибудь жилет, если холодно, или сразу дублет. А сверху на дублет — верхний плащ. То есть, чтобы отправиться на какое-нибудь формальное мероприятие, нужно было надеть как минимум три слоя одежды. А работали мужчины часто в одних только рубашках (но, конечно, у них были еще штаны-чулки, на которые сверху натягивали штаны пошире, похожие на наши шорты). Богатые меняли рубашку ежедневно, стирали часто. Иметь только две рубашки означало бедность, одну — нищету. На одной карикатуре XVIII века женщина легкого поведения стирает свою единственную рубашку — то есть это одновременно и эротическая картинка, и социальная сатира. Эта ситуация немного изменилась только в XX веке.
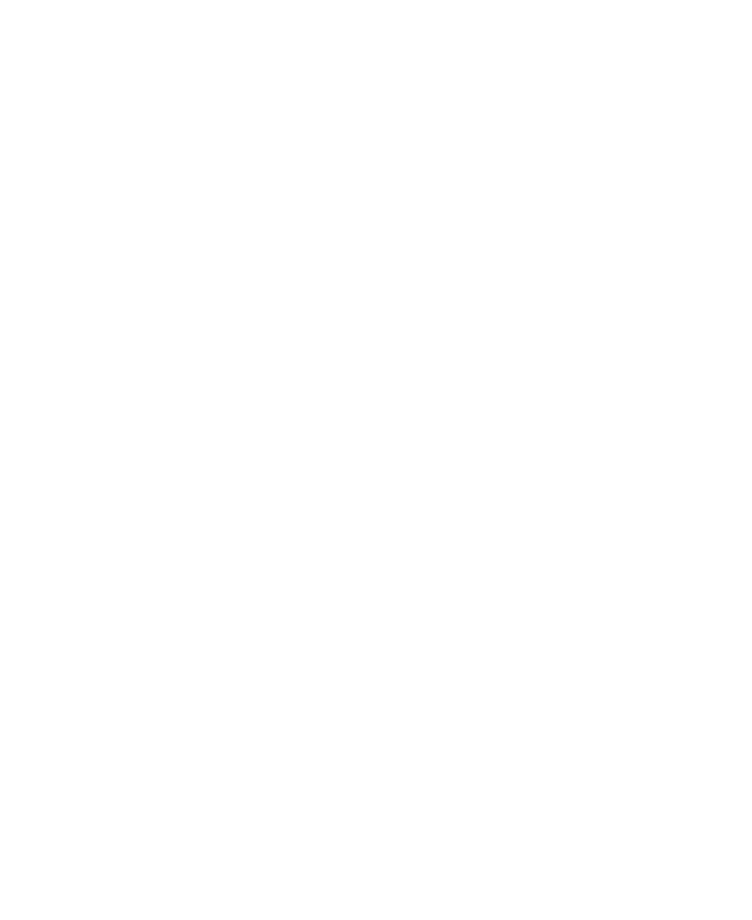
Д. Х.: Да, эти стереотипы уже многократно опровергались, но они живучи. В XVI веке и ранее уже существовали книги с советами по здоровому образу жизни: мыться каждую неделю, менять белье хотя бы раз в два дня — вполне нормальные рекомендации. Везде работали общественные и частные бани, их было много даже в небольших городах. Конечно, стандарты чистоты были другими, но мыться раз в год — такого никто бы не выдержал. Люди были, в нашем понимании, достаточно чистыми, регулярно меняли нижнее белье или хотя бы воротнички, причем это касалось и мирян, и клириков.
«Ш.»: А был ли мужской парадный костюм на портретах так же биографичен, как портрет Марии Стюарт, о котором тоже пойдет речь на курсе?
Д. Х.: Портрет в целом не отражает всю полноту одежды, которой человек владел. Например, существуют вязаные жилеты и камзолы, они сохранились в небольшом количестве в музеях, но это — нижняя одежда для тепла, и потому на портретах ее не увидишь. Датская исследовательница Май Ринггард предположила, что такую теплую поддевку можно разглядеть на портрете Перниллы Оттесдаттер 1654 года, но этим исчерпываются известные нам примеры. Одежда и аксессуары на портрете — это всегда важно, это маркировка социального статуса человека, принадлежности к какому-то роду. Если это женщина, то обязательно нужно показать, замужем она или нет, вдова или девушка.
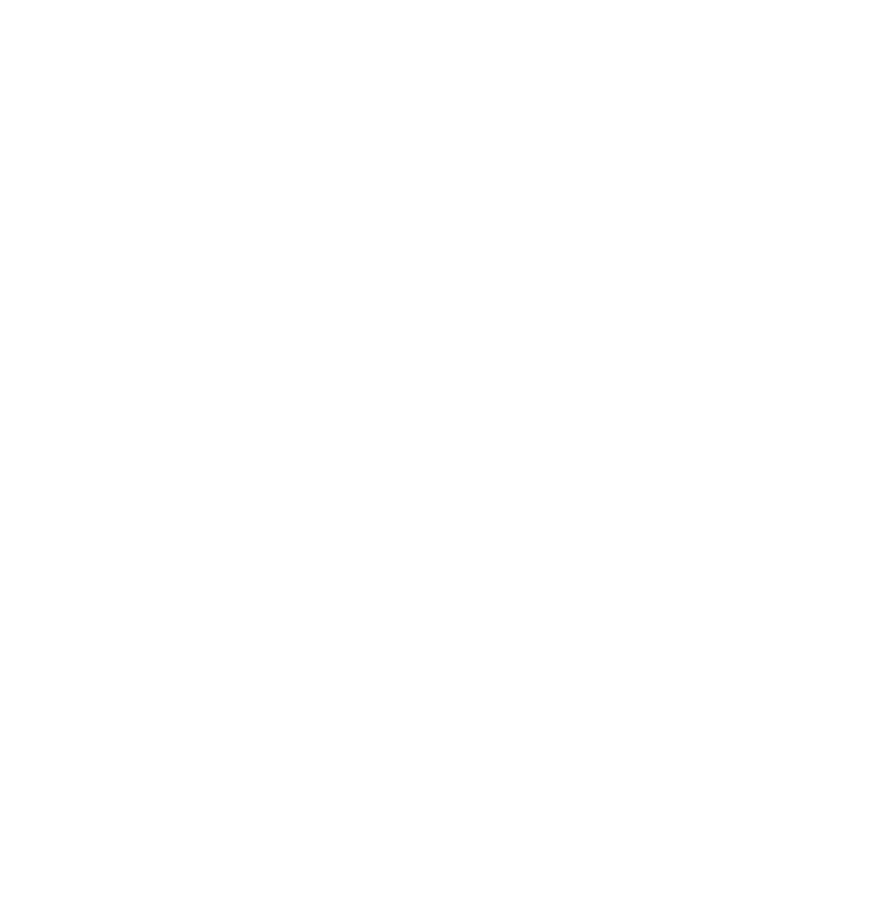
«Ш.»: Еще одна довольно интригующая тема курса — халат. Он ассоциируется со свободным временем, но не обязательно с отдыхом. В чем тут разница?
Д. Х.: Халат в искусстве — одна из моих любимых тем. Сейчас халат ассоциируется с отдыхом после душа, с домашней одеждой для расслабления, может быть, даже с ленью, как у Ильи Ильича Обломова. А в XVI–XVIII веках появление халата было связано с Японией — роскошные халаты были подарками японского правительства, символом высокого статуса. Сначала их могли носить только избранные, и хотя они были домашней одеждой, но надевались поверх рубашки, камзола и штанов и были вполне уместными для приема гостей. Такой халат показывал не только богатство, но и большую общественную значимость — человек не работал физически, но делал важное для страны. Потом халаты стали более доступными, но все равно долго оставались дорогой и статусной одеждой. И только в конце XVIII века халат стал настолько распространенным, что постепенно превратился в одежду для домашнего отдыха.

«Ш.»: Есть ли в современной моде преемственность правил того времени, или сейчас все абсолютно иначе?
Д. Х.: Не знаю, есть ли смысл говорить о правилах в сегодняшнем мире, скорее, о каких-то принципах, отличающихся от региона к региону и от страны к стране. А в Европе XVI–XVII веков действительно существовали «законы против роскоши», централизованные или городские, определявшие, кто и что может носить. Здесь было два критерия — социальное положение и доход: определенные виды мехов, тканей (например, парчу), дорогие украшения часто разрешалось носить только высшей знати.

«Ш.»: Какие ограничения или правила вам особенно запомнились или показались странными?
Д. Х.: Уже упомянутые законы против роскоши не перестают меня огорчать и даже раздражать, когда я читаю о них, — мне кажется, это одно из тех ограничений, которые как будто унижают человеческое достоинство и говорят: «Знай свое место». Конечно, они хорошо вписываются в концепцию иерархии времен позднего Средневековья и раннего модерна, а в случае с протестантизмом — и «предустановленности». Мне кажется, что они связаны с некоторой невозможностью изменить свое предназначение. Например, если ты купец, то ты можешь разбогатеть, войти в городской совет, получить право носить золотую цепь и гаун (верхний плащ) с мехом куницы. Но на этом все. Еще выше ты подняться не сможешь, носить другие меха не сможешь. То, что ты носишь, не только определяет тебя, но и сдерживает.
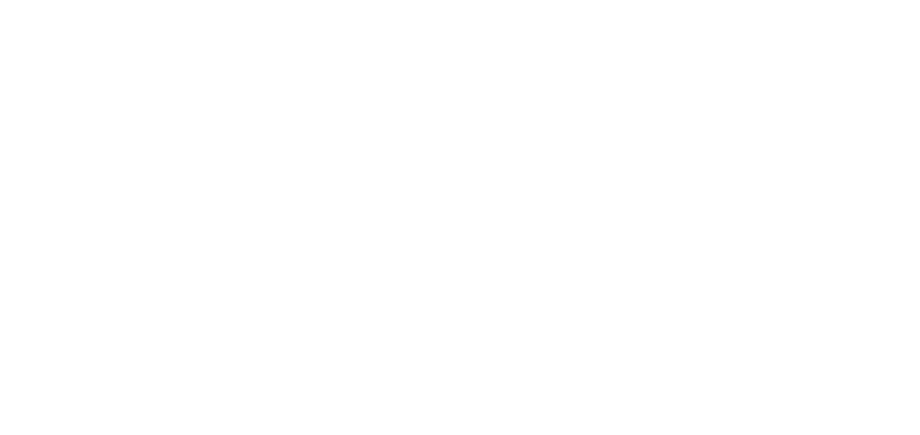
Традиция особых головных уборов для церкви существовала долго: например, в Базеле и Цюрихе женщин штрафовали за его отсутствие вплоть до начала XIX века. Ограничения ослабевали, но не сами собой — для этого женщинам необходимо было обрести свой голос, заявить о своих желаниях носить те головные уборы, которые им нравились, и украшать их по своему усмотрению. Это один из примеров того, как история одежды и моды связана с историей свободы. Об этом мы тоже поговорим на «Шатологии».
Д. Х.: Вислава Шимборская — выдающаяся польская поэтесса XX века, ее много переводили на русский и английский. Ее стихотворение «Музей» напрямую связано с нашим курсом «Одежда и время»: вещи живут дольше своих владельцев, оказываются в музеях. И это интересный парадокс: мы ощущаем себя владельцами своей одежды или аксессуаров, но часто именно они, несмотря на всю хрупкость, переживают нас. В то же время для последующих поколений они становятся безликими, если теряется связь с их прежней жизнью. Одна из задач историка костюма — найти эту связь, понять, какое значение тот или иной предмет одежды мог иметь для владелицы или владельца, понять, как его перешивали, украшали, представить себе, какого он изначально был цвета, как менялся. Все это можно восстановить, привлекая различные источники, в том числе и визуальные, и тогда вещь становится ближе, помогает понять эмоции и биографию ее владельца. Я думаю, что удовольствие от любимой одежды — универсальная штука во все времена. И если мы будем всегда это иметь в виду, то сможем понять далеких от нашего времени людей. На «Шатологии» я хочу показать, как одежда может стать для нас оптикой, через которую мы лучше узнаем мир — и прошлый, и сегодняшний.
Заявка на участие
в программе «Зима в Бургундии»
шато Le Sallay • 3 – 9 января'26
Вопрос
о программе «Зима в Бургундии»
шато Le Sallay • 3 – 9 января'26


