Слава Швец: Увидеть гениальность за полчаса до заката
«С барокко та же проблема, что и с современным искусством: это эпоха, когда денег было больше, чем гениев»
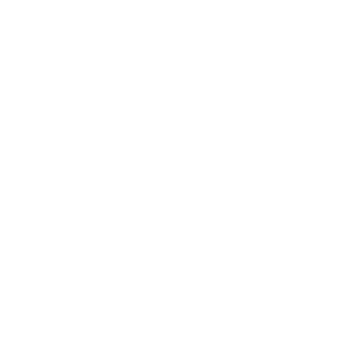
Накануне февральской Шатологии — где мы погрузимся в Ренессанс, маньеризм и барокко, — поговорили с историком искусства Славой Швец о том, почему этот период — самый настоящий разлом между понятным и туманным, почему скандальность Караваджо — лишь видимость и почему Франческо Борромини — единственный настоящий архитектор барокко.
«Шатология»: Наша программа посвящена переходу от Ренессанса к барокко и маньеризму. Чем этот период ценен для истории?
Слава Швец: Мы еще понимаем барокко интуитивно, нутром — но это уже ненадолго: оно еще не подернулось туманом непонимания, но этот момент уже вот-вот настанет. Нам пока есть куда поставить ногу и на что опереться (удалено “в подступающем тумане), но уже не все ступеньки видны и знакомы. Например, сейчас мы плохо считываем иконографию раннего христианства, декоративный аппарат римских вилл, полы косматеско XI–XIII веков — просто потому что временной разрыв увеличивается.
Слава Швец: Мы еще понимаем барокко интуитивно, нутром — но это уже ненадолго: оно еще не подернулось туманом непонимания, но этот момент уже вот-вот настанет. Нам пока есть куда поставить ногу и на что опереться (удалено “в подступающем тумане), но уже не все ступеньки видны и знакомы. Например, сейчас мы плохо считываем иконографию раннего христианства, декоративный аппарат римских вилл, полы косматеско XI–XIII веков — просто потому что временной разрыв увеличивается.
Конец Ренессанса, его переход в маньеризм и барокко — это трещина, которая разделяет понятное и туманное. Барокко мы еще как-то понимаем, а Ренессанс уже хуже — просто потому что проходят века, вырастают поколения, привыкшие к другому визуальному языку. Еще 150 лет — и барокко с маньеризмом мы тоже перестанем воспринимать. Но пока у нас еще есть понятийный аппарат, и он помогает не только понять, но и прочувствовать.
Барокко кажется простым: его легко любить за внешнюю роскошь, но если остановиться на красивых завитках и золотых колоннах — пропустишь главное. В лучших образцах оно очень умное. Проблема в том, что барокко много, а хорошего барокко мало — как с современным искусством. Половина римских церквей того времени — крепкий средний уровень, и если судить по ним, ничего не поймешь. Нужно стоптать семь пар железных сапог, чтобы найти настоящее.
Чтобы понять барокко, приходится работать как археолог — реконструировать эпоху по уцелевшим свидетельствам. Архитектура, музыка, живопись, немного театра — это сохранилось. Но огромная часть культуры исчезла почти бесследно: праздники, триумфальные шествия, карнавалы, фейерверки. Тот же Бернини много работал как сценограф — придумывал украшения площадей, постановки, спецэффекты. От этого остались считанные рисунки, и восстановить ту работу почти невозможно. Поэтому барокко нужно собирать из всех доступных осколков — архитектуры, живописи, музыки, театра — одновременно. По одной только архитектуре или одной только музыке эпоху невозможно понять.
Возьмем Караваджо — одного из героев курса. О его алтарных работах бессмысленно говорить, разбирая только мазок, композицию, биографию художника — и упуская главное: зачем это написано. А написано это для церкви, с религиозной целью. И чтобы по-настоящему понять алтарного Караваджо, нужен какой-то внутренний опыт веры — не обязательно христианской, не обязательно даже монотеистической, но опыт. Вот культ Диониса современному зрителю объяснить очень трудно — это часы разговора. А с Караваджо проще: у нас еще есть внутренний понятийный аппарат и схожие эмоциональные, духовные схемы, которые можно применить.
Чтобы понять барокко, приходится работать как археолог — реконструировать эпоху по уцелевшим свидетельствам. Архитектура, музыка, живопись, немного театра — это сохранилось. Но огромная часть культуры исчезла почти бесследно: праздники, триумфальные шествия, карнавалы, фейерверки. Тот же Бернини много работал как сценограф — придумывал украшения площадей, постановки, спецэффекты. От этого остались считанные рисунки, и восстановить ту работу почти невозможно. Поэтому барокко нужно собирать из всех доступных осколков — архитектуры, живописи, музыки, театра — одновременно. По одной только архитектуре или одной только музыке эпоху невозможно понять.
Возьмем Караваджо — одного из героев курса. О его алтарных работах бессмысленно говорить, разбирая только мазок, композицию, биографию художника — и упуская главное: зачем это написано. А написано это для церкви, с религиозной целью. И чтобы по-настоящему понять алтарного Караваджо, нужен какой-то внутренний опыт веры — не обязательно христианской, не обязательно даже монотеистической, но опыт. Вот культ Диониса современному зрителю объяснить очень трудно — это часы разговора. А с Караваджо проще: у нас еще есть внутренний понятийный аппарат и схожие эмоциональные, духовные схемы, которые можно применить.
«Ш»: Если смотреть на работы Караваджо с позиции дилетанта без искусствоведческого образования, то не очень ясно, что такого шокирующего и скандального в его натурализме?
С. Ш.: Это прекрасный случай из серии «совы не то, чем кажутся». Когда говорят о «шокирующем Караваджо», стоит включить внутреннего детектива и спросить: кого именно он шокировал и кому выгодно так его подавать?
Его главные заказчики — образованный клир, у которого были деньги и власть повесить алтарное полотно в церкви, — вовсе не были шокированы. Наоборот: они получали от Караваджо ровно то, что им было нужно. Ведь после Тридентского собора в церкви нельзя повесить что угодно — ренессансные вольности закончились, появилась сложная бюрократия согласований с епископами. И Караваджо строго следует правилам: четкая технология изображения, согласование с заказчиком, соответствие требованиям нового времени. Это именно то, чего хотела Церковь.
С. Ш.: Это прекрасный случай из серии «совы не то, чем кажутся». Когда говорят о «шокирующем Караваджо», стоит включить внутреннего детектива и спросить: кого именно он шокировал и кому выгодно так его подавать?
Его главные заказчики — образованный клир, у которого были деньги и власть повесить алтарное полотно в церкви, — вовсе не были шокированы. Наоборот: они получали от Караваджо ровно то, что им было нужно. Ведь после Тридентского собора в церкви нельзя повесить что угодно — ренессансные вольности закончились, появилась сложная бюрократия согласований с епископами. И Караваджо строго следует правилам: четкая технология изображения, согласование с заказчиком, соответствие требованиям нового времени. Это именно то, чего хотела Церковь.
Нынешним искусствоведам выгодно продавать его как великого бунтаря. Биография располагает: то официанту горячие артишоки в лицо бросит, то кого-то шпагой проткнет, то арендодателю окна камнями разобьет. Секс, вино, римские куртизанки — все при нем.
Можно писать книги, снимать фильмы, рисовать комиксы (которых про Караваджо действительно много). Но когда занимаешься документальными свидетельствами, видишь другое: он вовсе не маргинал. Швырнуть артишоки в официанта — пожалуйста, но с крупными заказчиками такого себе не позволяет. Работает быстро, сдает картины в срок, хранит их, если заказчик не забирает сразу: то есть, с теми, кто приносит деньги и славу, он не конфликтует.
Караваджо — персонаж, который отлично продается: драматургия, театральность, арка героя. Но нужно отделять персонажа от его работ, работы — от их места в своем времени, а все это — от нашей сегодняшней оптики. Это разные реальности. Караваджо выстрелил, но лет через шестьдесят от темной манеры все устали. С 1700-х до конца 1800-х на него не обращали внимания — он даже не входил в тридцатку самых известных римских художников, в путеводителях — максимум строчка. И только с появлением фотографии и кино, с новой визуальной реальностью его переоткрыли, полюбили и начали на нем зарабатывать. Та же история, что с Леонардо: он был важен узкому кругу, но звездой не был — пока из Лувра не украли «Мону Лизу».
Караваджо — персонаж, который отлично продается: драматургия, театральность, арка героя. Но нужно отделять персонажа от его работ, работы — от их места в своем времени, а все это — от нашей сегодняшней оптики. Это разные реальности. Караваджо выстрелил, но лет через шестьдесят от темной манеры все устали. С 1700-х до конца 1800-х на него не обращали внимания — он даже не входил в тридцатку самых известных римских художников, в путеводителях — максимум строчка. И только с появлением фотографии и кино, с новой визуальной реальностью его переоткрыли, полюбили и начали на нем зарабатывать. Та же история, что с Леонардо: он был важен узкому кругу, но звездой не был — пока из Лувра не украли «Мону Лизу».
«Шатология»: Почему вторым героем своего курса вы выбрали именно Франческо Борромини?
С. Ш.: Борромини — единственный настоящий архитектор барокко. Его коллега, друг и враг Бернини — классицист: он просто живет в эту эпоху и делает то, что все делают. А первый, самый крупный и передовой архитектор барокко — конечно, Борромини.
Сама идея изогнутых стен, впрочем, не была изобретением XVII века. Усталость от прямых плоскостей знакома еще античности. Плавно изогнутые стены впервые появляются в эпоху Северов (конец II — начало III века). Есть даже термин «северовское барокко». Архитектура XVII века — это вернувшаяся мода, как широкие плечи у пиджаков. Просто именно в эпоху Борромини идея получила намного более радикальное развитие, чем при Северах.
С. Ш.: Борромини — единственный настоящий архитектор барокко. Его коллега, друг и враг Бернини — классицист: он просто живет в эту эпоху и делает то, что все делают. А первый, самый крупный и передовой архитектор барокко — конечно, Борромини.
Сама идея изогнутых стен, впрочем, не была изобретением XVII века. Усталость от прямых плоскостей знакома еще античности. Плавно изогнутые стены впервые появляются в эпоху Северов (конец II — начало III века). Есть даже термин «северовское барокко». Архитектура XVII века — это вернувшаяся мода, как широкие плечи у пиджаков. Просто именно в эпоху Борромини идея получила намного более радикальное развитие, чем при Северах.
Почему именно тогда? Тут много факторов. Нельзя предложить заказчику что-то совершенно новое — не купит: ты готов, а он нет. Если заказали мишку и сосновый бор, нельзя принести черный квадрат — нужен компромисс: например, мишка на фоне черного квадрата.
Все происходит постепенно. И революционером стиля становится тот, кто не боится делать чуть более широкие шаги — как Борромини, сумевший убедить заказчиков в красоте изогнутых форм.
У Борромини, как у любого гения, другой склад ума: намного лучшее понимание сопромата и математики. Плюс — жесткие творческие рамки, а это всегда стимулирует. Когда он поссорился с Бернини, все большие дорогие проекты ушли сопернику. Борромини достались бедные заказчики — монастыри. Скудный выбор материалов, небольшой бюджет, никакой позолоты и мрамора. Часто — очень маленькое пространство. В лучшем случае камень и гипс. Нужно было скупыми средствами сделать красиво, продумать свет, добиться вау-эффекта. И у него получалось. Только в таких условиях творец может нащупать свой потолок — если он вообще есть. Был ли потолок у Борромини — обсудим на лекциях.
У Борромини, как у любого гения, другой склад ума: намного лучшее понимание сопромата и математики. Плюс — жесткие творческие рамки, а это всегда стимулирует. Когда он поссорился с Бернини, все большие дорогие проекты ушли сопернику. Борромини достались бедные заказчики — монастыри. Скудный выбор материалов, небольшой бюджет, никакой позолоты и мрамора. Часто — очень маленькое пространство. В лучшем случае камень и гипс. Нужно было скупыми средствами сделать красиво, продумать свет, добиться вау-эффекта. И у него получалось. Только в таких условиях творец может нащупать свой потолок — если он вообще есть. Был ли потолок у Борромини — обсудим на лекциях.
«Ш.»: После барокко архитектура как будто упрощается. Получается, что при всей своей гениальности Борромини не сильно повлиял на тех, кто работал после него?
С. Ш.: Тут важен не столько Борромини, сколько сам период: чем ярче эпоха, тем сильнее накопленная от нее усталость. От готики так устали, что в позднем Ренессансе и барокко само слово «готика» было ругательством — хотелось делать что-то принципиально непохожее.
С барокко случилось то же самое: прошло время, и все устали от завитков и позолоты. Барокко очень энергоемко для восприятия — оно постоянно возгоняет чувства, требует пребывать в возвышенном состоянии. Находиться в этом нон-стоп невозможно. Другое дело — раз в неделю прийти на мессу, посмотреть на всю эту красоту как в телевизор, а жить в более простом мире. Тогда работает контраст: возгонка чувств в особом контексте — и обычная жизнь вокруг.
Сейчас нам не нужна такая возгонка через архитектуру: открыл TikTok — взогнал чувства — закрыл TikTok. Поэтому архитектура вряд ли снова пойдет по пути барокко. Разве что случится энергетический коллапс и придется стимулировать людей старым добрым способом — через здания, живопись и музыку. А пока жизнь и так нас перегружает, поэтому в моде ретриты и минималистичный дизайн.
«Шатология»: Если бы на экскурсии по Риму вы могли показать только одно здание Борромини, то какое?
С. Ш.: Выбрать одно сложно, но я бы показала Сан-Карлино — Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане. Не самая известная его работа, но доступнее, чем Сан-Иво-алла-Сапиенца — и физически, и для понимания. На ней легче объяснять гений Борромини, она чаще открыта. Ну и я ее просто очень люблю.
Там есть все, что нужно: крошечное пространство, скудный бюджет, сложнейшая задача — и гениальные решения. Именно здесь видно, как Борромини из камня и гипса, без всякой позолоты, одним светом и геометрией создает невероятный эффект.
Это точка входа не столько в Борромини, сколько в барокко в целом — в его умную, сложную природу, которую так легко не заметить за красивыми завитками. Пока мы еще можем это прочувствовать. Пока не упустили момент.
С. Ш.: Тут важен не столько Борромини, сколько сам период: чем ярче эпоха, тем сильнее накопленная от нее усталость. От готики так устали, что в позднем Ренессансе и барокко само слово «готика» было ругательством — хотелось делать что-то принципиально непохожее.
С барокко случилось то же самое: прошло время, и все устали от завитков и позолоты. Барокко очень энергоемко для восприятия — оно постоянно возгоняет чувства, требует пребывать в возвышенном состоянии. Находиться в этом нон-стоп невозможно. Другое дело — раз в неделю прийти на мессу, посмотреть на всю эту красоту как в телевизор, а жить в более простом мире. Тогда работает контраст: возгонка чувств в особом контексте — и обычная жизнь вокруг.
Сейчас нам не нужна такая возгонка через архитектуру: открыл TikTok — взогнал чувства — закрыл TikTok. Поэтому архитектура вряд ли снова пойдет по пути барокко. Разве что случится энергетический коллапс и придется стимулировать людей старым добрым способом — через здания, живопись и музыку. А пока жизнь и так нас перегружает, поэтому в моде ретриты и минималистичный дизайн.
«Шатология»: Если бы на экскурсии по Риму вы могли показать только одно здание Борромини, то какое?
С. Ш.: Выбрать одно сложно, но я бы показала Сан-Карлино — Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане. Не самая известная его работа, но доступнее, чем Сан-Иво-алла-Сапиенца — и физически, и для понимания. На ней легче объяснять гений Борромини, она чаще открыта. Ну и я ее просто очень люблю.
Там есть все, что нужно: крошечное пространство, скудный бюджет, сложнейшая задача — и гениальные решения. Именно здесь видно, как Борромини из камня и гипса, без всякой позолоты, одним светом и геометрией создает невероятный эффект.
Это точка входа не столько в Борромини, сколько в барокко в целом — в его умную, сложную природу, которую так легко не заметить за красивыми завитками. Пока мы еще можем это прочувствовать. Пока не упустили момент.
Заявка на участие
в программе
«Смутьяны и авантюристы
Нового времени»
с 15 по 21 февраля'26
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заявка на участие
в программе
«Смутьяны и авантюристы
Нового времени»
с 15 по 21 февраля'26
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности


