Марина Давыдова: Who is Mr. Shakespeare?
«Шекспир — не реконструктор, он „пляшет от вольного“, он не столько подчиняется правилам, сколько изобретает их, и эта фантастическая свобода — часть его гения».
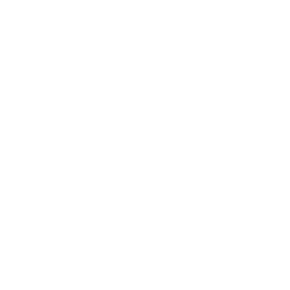
Февральская «Шатология» посвящена творцам-авантюристам Ренессанса и Нового времени — и тут без Шекспира никуда. А разговор о Шекспире и елизаветинском театре был бы неполным без Марины Давыдовой — театроведа, театрального критика, программного директора фестиваля Voices Berlin, которую мы очень давно мечтали видеть в числе наших лекторов. Мы поговорили с Мариной о том, почему елизаветинскую сцену нельзя понять без Средневековья, и о культурной мистификации вокруг Шекспира, которая сама стала частью эпохи.
«Шатология»: Обсуждая программу февральской «Шатологии», вы сказали, что в эпоху Возрождения интересный и необычный театр появился лишь в трех странах: Италии, Испании и Англии. Почему так получилось?
Марина Давыдова: Это непростой вопрос. Легко ответить, почему эпоха Возрождения начинается в Италии — вожделенная античность физически находилась на этой территории, буквально под ногами. С остальными странами все сложнее. В какой момент и по какой причине сам дух Ренессанса охватывает ту или иную культуру? Этот вопрос в каждом конкретном случае имеет множество ответов. К тому же разные виды искусства развиваются с разной скоростью. Скажем, во Франции в эпоху Ренессанса не возникает значимого театра, но позже, в XVII веке, там возникает мощнейший классицистский театр, который по-своему переосмысливает установки и самой античности, и итальянского театра эпохи Возрождения.
Марина Давыдова: Это непростой вопрос. Легко ответить, почему эпоха Возрождения начинается в Италии — вожделенная античность физически находилась на этой территории, буквально под ногами. С остальными странами все сложнее. В какой момент и по какой причине сам дух Ренессанса охватывает ту или иную культуру? Этот вопрос в каждом конкретном случае имеет множество ответов. К тому же разные виды искусства развиваются с разной скоростью. Скажем, во Франции в эпоху Ренессанса не возникает значимого театра, но позже, в XVII веке, там возникает мощнейший классицистский театр, который по-своему переосмысливает установки и самой античности, и итальянского театра эпохи Возрождения.
При этом ренессансный театр в трех названных мною странах тоже очень разный. Это три разных феномена. Ну например, в Италии и Испании на сцене блистают актрисы, а в Англии все роли исполняют мужчины.
В Италии, с одной стороны, существует «ученый» театр, который придумали гуманисты, а с другой — площадная commedia dell’arte. В Англии ничего даже отдаленно похожего на commedia dell’arte нет, зато во Франции, уже за пределами эпохи Возрождения, появятся офранцуженные маски commedia dell’arte. К нам они (Арлекин, Пьеро) попадут уже из Франции.
На курсе я буду объяснять, почему тем не менее мы можем говорить о театре эпохи Возрождения. Почему и как пользуемся термином «елизаветинский театр», ведь Елизавета I умирает в 1603 году, но в театре ее эпоха все продолжается и продолжается.
На курсе я буду объяснять, почему тем не менее мы можем говорить о театре эпохи Возрождения. Почему и как пользуемся термином «елизаветинский театр», ведь Елизавета I умирает в 1603 году, но в театре ее эпоха все продолжается и продолжается.
«Ш.»: Вы упоминали, что елизаветинский театр нельзя всерьез обсуждать без экскурса в Средневековье. Почему?
М. Д.: Это связано с самой структурой английской трагедии. А надо сказать, что жанр трагедии как таковой формируется именно в Англии; испанская или итальянская сцены его, строго говоря, не знают. Комедия эпохи Возрождения связана с умозрительными штудиями итальянских гуманистов, а трагедия в английском театре в значительной степени вырастает из средневековых театральных традиций — точнее говоря, из жанра моралите. Если мистерии, другой средневековый театральный жанр, рассказывают историю человечества от сотворения мира, то моралите, как правило, сосредоточено на одном герое. И эта центростремительная модель пьесы ложится в основу английской трагедии. Кристофер Марло, автор первого «Фауста» и важнейший предшественник Шекспира, отдал этой традиции немалую дань. Как и в моралите, в центре его пьес стоит человеческая личность, раздираемая силами добра и зла. Но важно и другое: сами елизаветинские подмостки тоже наследуют структуре средневековой сцены. Они заимствуют всю ее символику, семантику правого и левого, верха и низа.
М. Д.: Это связано с самой структурой английской трагедии. А надо сказать, что жанр трагедии как таковой формируется именно в Англии; испанская или итальянская сцены его, строго говоря, не знают. Комедия эпохи Возрождения связана с умозрительными штудиями итальянских гуманистов, а трагедия в английском театре в значительной степени вырастает из средневековых театральных традиций — точнее говоря, из жанра моралите. Если мистерии, другой средневековый театральный жанр, рассказывают историю человечества от сотворения мира, то моралите, как правило, сосредоточено на одном герое. И эта центростремительная модель пьесы ложится в основу английской трагедии. Кристофер Марло, автор первого «Фауста» и важнейший предшественник Шекспира, отдал этой традиции немалую дань. Как и в моралите, в центре его пьес стоит человеческая личность, раздираемая силами добра и зла. Но важно и другое: сами елизаветинские подмостки тоже наследуют структуре средневековой сцены. Они заимствуют всю ее символику, семантику правого и левого, верха и низа.
«Ш.»: Можно ли сказать, что испанский и итальянский театры эпохи — более новаторские?
М. Д.: Нет-нет! Это вообще не вопрос новаторства. С точки зрения литературы, итальянский театр не знает фигур масштаба Шекспира, достижения итальянской ренессансной драматургии (пьесы Лудовико Ариосто, Никколо Макиавелли, Пьетро Аретино, Джордано Бруно) несопоставимы не только с Шекспиром, но и с Марло, и с Уэбстером. Возрождение в Италии — это возрождение в буквальном смысле: реконструкторский жест. Они пытаются внутри своей эпохи воскресить другую — античную. Только они воссоздают не театр высокой классической античности, а поздний эллинистический театр, тогда ведь еще не были найдены тексты многих великих трагиков — Софокла, Еврипида, Эсхила. Гуманисты ориентируются главным образом на тексты Теренция, Плавта, Сенеки и, строго говоря, возрождают куда более позднюю эпоху, чем намеревались, но важна сама их интенция — реконструировать.
М. Д.: Нет-нет! Это вообще не вопрос новаторства. С точки зрения литературы, итальянский театр не знает фигур масштаба Шекспира, достижения итальянской ренессансной драматургии (пьесы Лудовико Ариосто, Никколо Макиавелли, Пьетро Аретино, Джордано Бруно) несопоставимы не только с Шекспиром, но и с Марло, и с Уэбстером. Возрождение в Италии — это возрождение в буквальном смысле: реконструкторский жест. Они пытаются внутри своей эпохи воскресить другую — античную. Только они воссоздают не театр высокой классической античности, а поздний эллинистический театр, тогда ведь еще не были найдены тексты многих великих трагиков — Софокла, Еврипида, Эсхила. Гуманисты ориентируются главным образом на тексты Теренция, Плавта, Сенеки и, строго говоря, возрождают куда более позднюю эпоху, чем намеревались, но важна сама их интенция — реконструировать.
Человек, возрождающий некий образец, неизбежно менее свободен, чем автор, который ни к каким образцам себя не привязывает. Шекспир — не реконструктор, он «пляшет от вольного», он не столько подчиняется правилам, сколько изобретает их, и эта фантастическая свобода — часть его гения.
«Ш.»: Если говорить об авторстве Шекспира: есть версии, что по крайней мере часть произведений написал не он. Но есть и защитники его тотального авторства. А почему нам вообще важно, был ли он автором своих пьес?
М. Д.: Это сложнейший вопрос, и я бы предпочла не касаться его в коротком интервью. Надеюсь, на лекциях мы разберем все многочисленные версии — и узаконенную стратфордианскую, утверждающую, что автором шекспировского канона (тридцать семь пьес, а также сонеты и поэмы) был уроженец Стратфорда-на-Эйвоне. И антистратфордианские, считающие, что за этими текстами скрывается совсем иной автор, а уроженец Стратфорда вообще ничего не писал и даже не читал, потому что попросту был безграмотен: ведь даже в своем завещании он скрупулезно перечисляет предметы мебели и утвари, но не книги, которые в то время стоили больших денег и были предметом роскоши. По всей видимости, книг в его доме вообще не было, утверждают они.
В пьесах Шекспира есть целые сцены, написанные на прекрасном французском языке, в них демонстрируются прекрасное знакомство с придворными ритуалами, обширные географические, исторические и даже научные знания. В ту эпоху все это было невозможно «нагуглить», это — знания человека с университетским образованием. Меж тем полные списки выпускников Кембриджа и Оксфорда сохранились, и никакого Шекспира среди них нет. А Марло, к слову, есть.
Я уже не говорю о великом множестве текстологических проблем. Нет другого автора в истории мировой литературы, вокруг произведений которого возникало бы столько проблем подобного рода: даже если вы заглянете в русские переводы его пьес, знаменитый восьмитомник, то увидите, что после каждой пьесы идут километры текстологических комментариев, примечаний, разночтений.
М. Д.: Это сложнейший вопрос, и я бы предпочла не касаться его в коротком интервью. Надеюсь, на лекциях мы разберем все многочисленные версии — и узаконенную стратфордианскую, утверждающую, что автором шекспировского канона (тридцать семь пьес, а также сонеты и поэмы) был уроженец Стратфорда-на-Эйвоне. И антистратфордианские, считающие, что за этими текстами скрывается совсем иной автор, а уроженец Стратфорда вообще ничего не писал и даже не читал, потому что попросту был безграмотен: ведь даже в своем завещании он скрупулезно перечисляет предметы мебели и утвари, но не книги, которые в то время стоили больших денег и были предметом роскоши. По всей видимости, книг в его доме вообще не было, утверждают они.
В пьесах Шекспира есть целые сцены, написанные на прекрасном французском языке, в них демонстрируются прекрасное знакомство с придворными ритуалами, обширные географические, исторические и даже научные знания. В ту эпоху все это было невозможно «нагуглить», это — знания человека с университетским образованием. Меж тем полные списки выпускников Кембриджа и Оксфорда сохранились, и никакого Шекспира среди них нет. А Марло, к слову, есть.
Я уже не говорю о великом множестве текстологических проблем. Нет другого автора в истории мировой литературы, вокруг произведений которого возникало бы столько проблем подобного рода: даже если вы заглянете в русские переводы его пьес, знаменитый восьмитомник, то увидите, что после каждой пьесы идут километры текстологических комментариев, примечаний, разночтений.
Кто прав в споре об авторстве шекспировских пьес, мы, по всей видимости, уже никогда не сможем сказать со всей определенностью, но вопрос авторства не кажется мне все же досужим. Во-первых, в отличие от Гомера, личность которого мифологична, в случае с Шекспиром мы имеем дело с конкретным человеком. Его психологический портрет проступает и за его сонетами, и за многими монологами его великих пьес.
Во-вторых, так или иначе решенная проблема авторства меняет контекст чтения его произведений и само понимание эпохи. Ведь не стоит забывать, что конец XVI — начало XVII веков — это эпоха мистификаций (чего стоит один только миф о розенкрейцерах, в которых поверила чуть ли не вся Европа). И если Шекспир — великая литературная мистификация, как вписывается она в эту эпоху? Какова театральная природа этой мистификации? Не является ли она сама по себе частью театра эпохи Возрождения? Тут, в свою очередь, тоже возникает великое множество вопросов, каждый из которых мне интересен.
«Ш.»: Когда вы начинали заниматься елизаветинским театром, вы в сторону шекспировского вопроса особенно не смотрели?
М. Д.: Я училась на театроведческом факультете. И меня в студенчестве интересовали не просто тексты для театра, но в первую очередь собственно театр — его условности, его быт. Был ли в то время антракт, как была устроена сцена, были ли в ней люки, как артисты существовали без режиссера, какие правила поведения на сцене диктовала театральная традиция.
Идея, что театр не равен литературе, что это отдельный вид искусства со своими законами, восходит к началу XX века, к возникшей в Германии школе театроведения, главным представителем которой был Макс Герман. У нас в двадцатые годы ее постулаты получат развитие в ленинградской школе театроведения (Алексей Гвоздев, Стефан Мокульский, Адриан Пиотровский). Они пытались на основе знаний об эпохе реконструировать спектакли — и средневековые, и ренессансные, и барочные. Несложно догадаться, что эта великая школа будет в тридцатые годы разгромлена, а ее участники — обвинены в формализме. А уже в восьмидесятые годы благодаря Алексею Бартошевичу, Видасу Силюнасу, Анне Ципенюк она будет возрождена в ГИТИСе. Я стану частью этих семинаров. Из них вырастут и мой диплом, и моя диссертация. И если бы я могла заново проживать свою жизнь, я бы с удовольствием вернулась к этим академическим занятиям.
«Ш.»: А как реконструировать елизаветинский театр, находясь в СССР?
М. Д.: Читая книжки. В библиотеках были английские исследования, я их изучала, а потом на их основе пробовала реконструировать спектакли конкретных пьес. Брала текст, опиралась на набор знаний о театре и его условностях и пыталась представить, как выглядел, скажем, «Макбет» в «Глобусе» начала XVII века? Или «Герцогиня Амальфи» Джона Уэбстера? Режиссера нет, и, чтобы артисты выходили и играли, они должны существовать внутри заранее заданного концепта, определенного правилами и традицией. Ты выучил текст, вышел — и дальше тобой «режиссируют» эти правила.
М. Д.: Я училась на театроведческом факультете. И меня в студенчестве интересовали не просто тексты для театра, но в первую очередь собственно театр — его условности, его быт. Был ли в то время антракт, как была устроена сцена, были ли в ней люки, как артисты существовали без режиссера, какие правила поведения на сцене диктовала театральная традиция.
Идея, что театр не равен литературе, что это отдельный вид искусства со своими законами, восходит к началу XX века, к возникшей в Германии школе театроведения, главным представителем которой был Макс Герман. У нас в двадцатые годы ее постулаты получат развитие в ленинградской школе театроведения (Алексей Гвоздев, Стефан Мокульский, Адриан Пиотровский). Они пытались на основе знаний об эпохе реконструировать спектакли — и средневековые, и ренессансные, и барочные. Несложно догадаться, что эта великая школа будет в тридцатые годы разгромлена, а ее участники — обвинены в формализме. А уже в восьмидесятые годы благодаря Алексею Бартошевичу, Видасу Силюнасу, Анне Ципенюк она будет возрождена в ГИТИСе. Я стану частью этих семинаров. Из них вырастут и мой диплом, и моя диссертация. И если бы я могла заново проживать свою жизнь, я бы с удовольствием вернулась к этим академическим занятиям.
«Ш.»: А как реконструировать елизаветинский театр, находясь в СССР?
М. Д.: Читая книжки. В библиотеках были английские исследования, я их изучала, а потом на их основе пробовала реконструировать спектакли конкретных пьес. Брала текст, опиралась на набор знаний о театре и его условностях и пыталась представить, как выглядел, скажем, «Макбет» в «Глобусе» начала XVII века? Или «Герцогиня Амальфи» Джона Уэбстера? Режиссера нет, и, чтобы артисты выходили и играли, они должны существовать внутри заранее заданного концепта, определенного правилами и традицией. Ты выучил текст, вышел — и дальше тобой «режиссируют» эти правила.
Тобой режиссирует традиция! Как укладываются великие шекспировские тексты в эти правила, почему они не отменяют его драматургическую свободу? Это тоже вопросы, на которые мы постараемся ответить.
«Ш.»: В одном из интервью вы говорили о важности поиска живого, актуального театра, который не превращается в исторический музей. А что для вас значит живой, когда мы говорим о постановке старинных пьес?
М. Д.: Современный театр хорош тем, что, в отличие от театра минувших эпох, он может быть каким угодно и внутри каждого спектакля задает свои правила игры. Задача зрителя — в процессе спектакля их разгадать. И это огромное удовольствие. В детстве я наблюдала во дворе, как взрослые играют в нарды, и пыталась понять логику движения фишек. С современным театром — то же самое. Живой театр — тот, где ты включен в эту игру и улавливаешь новые правила, а не просто следишь за сюжетом спектакля.
Эти правила — разные в спектаклях Кристофа Марталера или Флорентины Хольцингер, Ромео Кастеллуччи или Арпада Шиллинга: помню его «Чайку», в которой вообще не было декораций, зрители сидели на стульях в небольшой пустой комнате, и вдруг выяснилось, что некоторые из зрителей — это артисты и персонажи пьесы, и они начинали жить рядом с тобой или перед тобой, на расстоянии вытянутой руки.
Меня всегда очень вдохновляло, что в современном живом театре нет предписаний и ограничений. В нем все возможно. Почти как в шекспировских пьесах.
М. Д.: Современный театр хорош тем, что, в отличие от театра минувших эпох, он может быть каким угодно и внутри каждого спектакля задает свои правила игры. Задача зрителя — в процессе спектакля их разгадать. И это огромное удовольствие. В детстве я наблюдала во дворе, как взрослые играют в нарды, и пыталась понять логику движения фишек. С современным театром — то же самое. Живой театр — тот, где ты включен в эту игру и улавливаешь новые правила, а не просто следишь за сюжетом спектакля.
Эти правила — разные в спектаклях Кристофа Марталера или Флорентины Хольцингер, Ромео Кастеллуччи или Арпада Шиллинга: помню его «Чайку», в которой вообще не было декораций, зрители сидели на стульях в небольшой пустой комнате, и вдруг выяснилось, что некоторые из зрителей — это артисты и персонажи пьесы, и они начинали жить рядом с тобой или перед тобой, на расстоянии вытянутой руки.
Меня всегда очень вдохновляло, что в современном живом театре нет предписаний и ограничений. В нем все возможно. Почти как в шекспировских пьесах.
Заявка на участие
в программе
«Смутьяны и авантюристы
Нового времени»
с 15 по 21 февраля'26
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Заявка на участие
в программе
«Смутьяны и авантюристы
Нового времени»
с 15 по 21 февраля'26
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности


